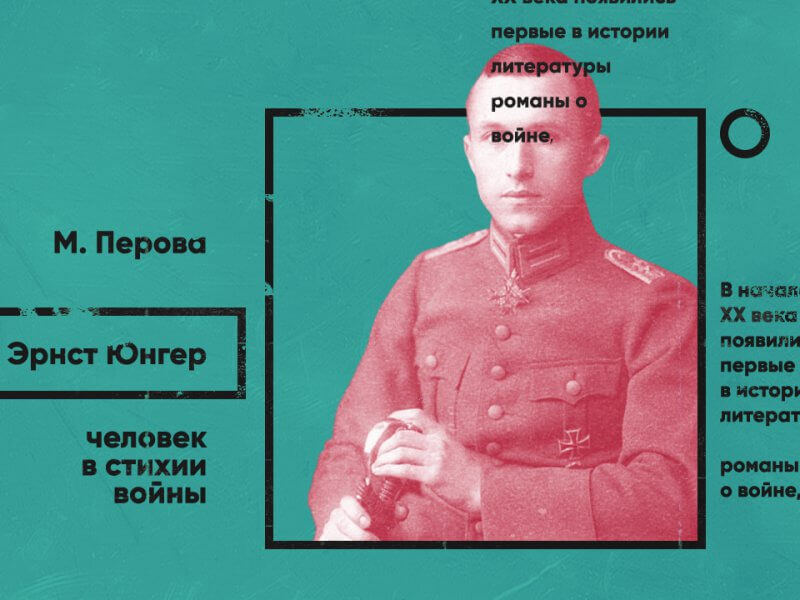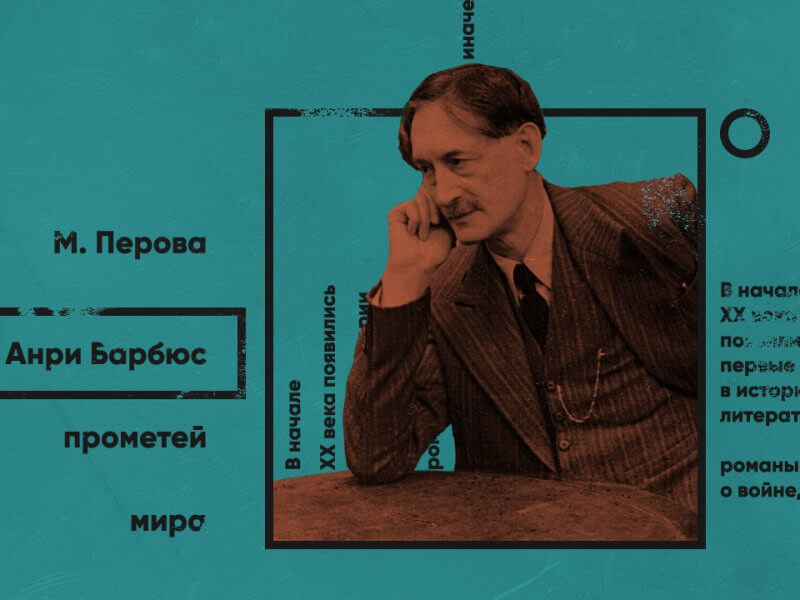Георгий Дмитриевич Гачев — выдающийся советский и русский литературовед, писатель, философ и культуролог, автор множества специально-научных и научно-популярных работ по теории литературы, искусства и творчества в целом. Его влияние на развитие и популяризацию достижений этих дисциплин сложно недооценить: чего только стоит его книга «Творчество, жизнь, искусство», написанная для детей старшего школьного возраста и доступным языком раскрывающая перед ними такие сложные даже для «учёных взрослых» темы, как природа эстетического идеала, становление понятий художественного и эстетического, роль труда в этом процессе! По работам Георгия Гачева очень удобно не только начинать, но и продолжать, и углублять изучение проблем искусства и эстетики, практически утверждать их жизнеполагающую роль для отдельного человека и всего человечества. Они вполне могут оказаться настольными для всех, кого эти вопросы занимают не только лишь профессионально, но и просто по-человечески — то есть, как сказал бы другой известный философ А. В. Босенко, интересующихся ними не от нужды, а без нужды, от свободы и по свободе.
Сегодня мы предлагаем читателю редкую статью учёного — «Парадокс о художественности», впервые увидевшую свет в 1979 г. со страниц знаменитого журнала «Литературная учёба», основанного самим М.Горьким.
Что есть художественность? — такую тему получил заказ мой странствующий ум промыслить. В. И. Этов встретился из «Литучебы»: интересуются-волнуются письменники учащиеся, начинающие: что считать художественным и как сподобиться сего качества престижного?
Давно я на эти темы, эстетические, не размышлял, отлетел от них в ширь бытия, все его промышлять-осваивать: и жизнь, и совесть, и естествознание, и философию. И теперь мне о художественном, об искусстве думать — это как в родной дом отчий из странствий блудных возвратиться и любимое и сердечное вновь взвидеть и к нему приникнуть…
Да и уходил ли я от эстетической проблемы, стремясь целое постигнуть, объять необъятное? Как раз целое и есть родная почва искусства и присущая ему «точка» зрения на всё, в неё расширяться непрерывно тянет художника. Художественность тухнет, глохнет, когда старается быть только художественностью как особым частичным качеством наряду с правдивостью, интересностью, научностью, нравственностью, общественностью, личностностью, психологизмом и т. д. «Ах, какой образ! Какая метафора! Какой стиль! Композиция бесподобная!» — а меня тошнит от этого. «Тьфу!» Постыдная обречённость художника быть мастером-штукарём вещичек произведений, как технарем своего рода — наряду с программистом-вычислителем. Как тот ловко переводит проблемы природы на значки перфоленты, так и этот в мастерскую свою заволакивает бабу-Жизнь и магически процедурирует-препарируетеё в ретортах фабул, на огне вдохновения, с ферментами литературных влияний, с катализаторами подражаний приёмам тех или иных маэстро…
Так выглядит художественность на низовом своем уровне: фактов-объектов-предметов-изделий художественных произведений: как мастерство, техническое искусство в оперировании приёмами ремесла.
Но то, что щемит душу, исторгает слёзы, расширяет всё существо твоё от восторга и умиления пред красотой, вычищает чернь и смердь твою и побуждает к преображению себя и мира, к невозможности жить отныне так, как жил, — откуда это берётся, что это, как назвать это качество художника и его создания?
Есть, конечно, условные значки для поименования этого икса: «талант», «гений», «вдохновение» — как силы-энергии, что образуют эти эффекты-«издействия». Но и они в контексте таковых рассуждений и счётов выглядят как вещи и объекты, как уголь и нефть, что надо добыть вовне или из себя выволочь наружу. И один — богат, другой беден, давай перераспределим — «на всех её (музу!) пожиже разведём!»
Герцен это и осмыслил: «У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести. Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы». Недаром именно в России возникло определение литературы как «учебника жизни» (Чернышевский). Правда, Чернышевский находил аналогичное России XIX века положение литературы в Германии со второй половины XVIII века. Но там литература в выражении смыслов национальной жизни делила лавры с философией: там рядом с Гёте —Гегель, с Шиллером — Кант. Русская классическая литература XIX века в этом плане монопольна, и царство её в сфере мысли и слова безраздельно. Тут Толстой — Гегель, Достоевский — Кант… кроме того, что каждый из них одновременно Гёте и Шиллер соответственно, к примеру…
Но отсюда свет и на нашу искомую «художественность» проливается. В каждой национальной традиции, в каждую эпоху она имеет особое наполнение. В России она всегда была разомкнута в жизнь и мысль — а не радела об особости своего цеха, как это, например, во французской литературной традиции, где стиль и форма и вкус образа-«имажа» превыше чтутся…
В каждом народе и культуре национальной складывается таким образом традиция определённых ожиданий от писателя, книги, художественной литературы. У нас, от нашего, ждут, каждый, с волнением — разъяснения смысла существования, его цели: чтоб помог писатель распутать путаницу жизни, расхлебать кашу взаимопротиворечащих ценностей её. Или, если и сам не понимает и не в силах писатель умом разобраться в этих переплетах, — чтоб с такою искренностью развёрз-поделился своими сомнениями, исканиями, поставил вопросы, возбудив душе в но-духовную активность уже читателя: оросил-оплодотворил-заразил его ум, — что его образ-книга стимулом-будителем войдёт в процесс преображения жизни и человеков. «Я не знаю, что сказать-ответить и что делать, но вот как я вижу, что люблю и отчего страдаю, смотрите, слушайте, переживайте со мною!» — так можно представить позицию художника между жизнью и мыслью. Жизнь — больше искусства, рассудочная мысль — прямее, уже, линейнее, меньше мысли художественной, которая всегда — не ответно-формульна, но — проблемна, объёмна, альтернативна, есть пук и фокус значений и возможных ответов узел, которые уж затем по ниточкам распутывают рассудочные критики — толкователи.
И если окинуть единым, с «птичьего полёта», взглядом последних двадцати лет наш литературный процесс, то явно проступит последовательность родов и жанров в освоении новой реальности. Сначала — мобильная поэзия отозвалась, потом рассказ-повесть. И, пожалуй, на этой стадии и застряла-затянулась: романа, равномощного повестям Айтматова, Распутина, Трифонова, нет. Но на роман наши повествователи не тянут именно потому, что не замахиваются на всё: всё понять-постичь, привести в движение: весь объём жизни, истории, событий, идей и ценностей, расхожих и глубинно-потаённых, — но выгораживают себе особый объектик-предметик, жанрик испытанный, в котором уж они мастера и рука набита. Не хватает отчаяния и риска. И тут рутина мастерства держит ещё и похлеще и цепче духовной несмелости: привыкли вещь создавать художественную непременно: вкусную по языку-стилю, умело сюжетно построенную…
А может, взорваться сейчас — должна художественность такого типа — заклиненного на мастерстве: воздуха в ней не хватает и, соответственно, — пороха, чтоб подъять бремя жизни и её смыслов. Народы-то читатели сейчас стали и умные, и сметливые, и образованные — и захватывающие перипетии миропониманий, авантюры в духе, парадоксы и сюжеты в концепциях и теориях наук и культур и эпох — разве не имеют права стать предметом художественного мышления и вымысла и фантазии? А литература всё знай себе накручивает-наяривает сюжетцы про то, как Таня любит Ваню, а Ваня любит Маню…
Но — уф — дай дух переведу! На многое замахнулся слишком сегодня, да и тон мне неприсущий принял: проповедальный-судящий, а не исповедальный, самоочистительный… Вот и чую, как навлёк я волны фурий вызовами своими, змеятся эринии задетых понятий, установок принятых эстетических — и требуют с собой посчитаться и не увиливать от прямого ответа про художественность и мастерство: что они есть по сути своей глубинной и так ли уж плоски, как я это изобразил в первом своем разгоне на мысль?
Ну да: то всё заход был из понимания искусства, литературы — как познания, и выражал недовольство узостью содержания современной нашей литературы, лилипучьим её замахом на мысль — при эпопейной вампуке и антураже подчас. По размаху материала и персонажей — трилогия, ну — «Война и мир», не иначе! А мыслишки — на курьих ножках ходят: ширпотреб интеллектуальный… А ведь долг-то: быть национальной философией — никто его не снимал с русской литературы: отчего? зачем? к чему? почему всё? — кто ж в этом всём разбираться будет, как не писатель?
— Ну уж ты хватил! — слышу себе отповедь. — А науки-то кругом — несть числа! Кибернетики, информатики, психотики, экологии, демографии — они-то на что?
— Ну да: на кой-география, когда есть извозчик? — знакомую слышу структуру во фразе этой…
И что же! А ведь на мысль навёл меня слух, уподобивший нынешнего письменника, замученного науками и потоками информаций — Митрофанушке, которому надоело учиться- интеллектуальничать, а потянуло жениться-жить. И в самом деле: современный писатель обморочен науками и их претензиями: маги-мошенники из НТР обещают тут всё обкнопочить: погодь немного, ужо на всё дадим ответ, потерпи век, тысячелетийко-другое… А так: куда ты с неумытым-неучёным рылом в калашный ряд проблем-вопросов, которые люди с высшим специальным образованием в каждой данной (миллионной…) области решают: им и положено, а ты, сверчок литературный, и знай свой шесток художественный — и сиди на нём и не лезь, куда тебя не просят и где ты — неуч, пропорционально почище ещё Митрофанушки: по отношению ко всему объёму культуры и знаний своего времени.
Пиши себе про то, как Таня любит Ваню, а к нам не лезь. Ну, можешь взять Таню из химической лаборатории, а Ваню — физика-теоретика, и всякий там антураж из учёных словечек намотать, но далее — ни-ни, а лучше-ка принеси гитару…
И всё же мне все более нравится Митрофанушка-недоросль — в контексте учителей-магов современной науки: ведь вполне здравомыслен он! На вопрос: «дверь» — существительное или прилагательное? — он не отвечает, как попугай, заучивший термины грамматики, а вслушивается-вдумывается в смысл слова, смотрит в корень дела и находит, что дверь навешенная — прилагательная, ибо к делу приложена, а дверь, что сама по себе, та просто так существительна: как субстанция и абстракция, отвлечённая идея… Ей-богу, умнее учителя распорядился с понятиями наш недоросль.
И вот искусство и художник — это вечный недоросль: дитя, отрок, кандид наивный в культуре — всё усложняющийся от древности и Гомера, когда Сократ аналогичным же образом ставил к стенке поэта Иона и принуждал его признаваться в своём невежестве (как и технарь в вышевымышленном моём диалоге), до XIX века, когда рационалисты поэтов-романтиков прямо и называли варварами в культурном-цивилизованном веке и человечестве, что не хотят признать свою некультурность и пойти на выучку к позитивной науке… — и до нынешних времен, когда физики уж не только в загон лириков упекают: то ещё куда б ни шло! на воздухе всё же вольном! — но в бомбоубежище, да и вообще в небытие и рассеяние атомарное по космосу…
Художник-писатель — отсталый и варвар в системе современного индустриально-конвейерного способа изготовления продукта — уже тем, что он, как и ремесленник средневековый, кустарь-одиночка — сам с начала до конца, наедине изготовляет книгу — шкаф дум и короб образов своих. Это уже «противоестественно» — хотел автоматически сказать, но точнее тут будет: «противоискусственно» — в современной насквозь искусственной цивилизации, что во всём есть плод искусства, техники, нарочитости-«индустрии»-«промышления»-«промышленности», тогда как художник, агент так называемого по инерции «искусства», — выражает гораздо более натуральный, естественный человеку’ способ производства и жизни. И — чем ближе к природе, к «неискусству» — тем художественнее будет его сочинение — вот ведь какой парадокс у нас сам собой вышел — просто из игры слов вроде бы родившийся. А ведь эта игра — неспроста: она есть некое наущение: тут разум — гений самого языка наводит на идеи и мысли…
Итак, вот что такое художественность: это позиция естества, его точка зрения — в насквозь искусственном современном мире и быте, и отношениях межчеловеческих. Художник — это тот, кто смеет стоять на стороне простого здравого смысла, что был и у мужика необразованного, и, не обольщаясь, не обморочиваясь мороком-опиумом современной цивилизованной учёности и её обетов и магий, — осмеливается задаваться самыми примитивными вопросами: «А на кой-это всё?», «Что я с этого буду иметь?» — как человек смертный и единожды живущий, кому надо за жизнь свою малую понять всю правду, истину, зачем всё и отчего — и прожить её в любви, по истине и счастливо.
С точки зрения науки это всё «некорректные» вопросы, она их обходит, считая недозволенными, а решает свои, другие, эгоистические — в учёном уютном своём академическом междусобойчике. Они остались беспризорными — этикардинально-радикальнейшие вопросы: о Целом, о связи всего между собой и с человеком, с ценностями жизни и души…
И если науки могут между собой поделить сферы влияния и деятельности, — то куда ж деваться человеку каждому, когда он есть натуральная целостность: и говорит языком (- филолог, значит), и в обществе живёт (- социолог), и ходит (- механик), и считает, и песни поёт — словом, всё в нём сходится.
Прямодушно и простодушно вопрошать и глаголить — вот позиция «искусства» и художества в современном мире без козней-хитростей (как мне сообщил филолог Гаврюшин Н.К., исследовавший термин «техника», так его переводили в Древней Руси: «козни», «хытрости»): достаточно кругом всяких таких «хытростей» и кузнецов-кознецов нашего счастья. А художник-недоросль, как мальчик в «Новом платье короля», среди всеобщего морока мошенников, которые играли как раз на этой струнке — страхе человека показаться необразованным, невежественным, неумным, — дерзает наивно завопиять: «А король-то — голый!» — так неучено, непрофессионально, некорректно, неэтично!
Это в прежние времена, натурального производства «художество», «искусство» — было спарено с техникой, ремеслом, и художник в общественной стратификации совпадал с кузнецом, строителем, писарем, плотником («гармония» — буквально «плотничанье», по-гречески). И художник был тот, кто наилучший искусник-мастер, хитёр-монтёр штуки выделывать — как Левша тульский: мастерством-формою дивились у поэтов, музыкантов…
Но теперь, в XX веке, техника индустриального производства безвозвратно выбила этот козырь из рук искусства: по изобилию «хытростей», приёмов разных производства-технологии своей, — и этим уж «не обморочишь» (по слову Скалозуба) «учёностью» и «мастерством» человека — обитателя нашего времени. И когда в произведении искусства тебя ведут-указывают-акцентируют приёмчик-форму, ими полюбоваться-восценить, — ты с усилием делаешь над собой вивисекцию: душа не трогается этим…
Вот-вот: «трогательность» — это наивное слово сентиментальной поры искусства — вот что сейчас гораздо точнее обозначит нам ту идею, что традиционно дошла к нам под словом «художественность».
Да, да, это всегда надо иметь в виду: ползучий объём содержания понятия — под термином недвижным, и их превращаемость, и перипетии, и отслаивания, так что вдруг иное слово лучше выразит первичный смысл, нежели привычный термин — супруг законный сущности данной…
Она не данная как раз, но живущая и самотворческая и самораскрывающаяся, и другим — раскрываемая, обучаемая, объясняемая.
Потому-то так тянемся мы ныне к простой достоверности дневников, документов, записей немудрящих, что слишком много пренасыщена цивилизация сегодняшняя всякого рода лукавым мудрствованием — в том числе и из оперы художественного вымысла и мастерства.
Вчера с физиками-теоретиками в их литературном студенческом кружке беседовал, и напомнили они мне кстати, что самое трудное и ценимое — это суметь задать глупый вопрос. Ибо все стали столь вышколены и так по проторённым путям привыкли ходить себе уютно, что требуется уже гигантская смелость и сила воображения и незамутнённый влияниями взгляд, чтобы среди потоков наваждений культуры и образованности — отстраниться и, как юродивый, урод в семье умников, Иван-дурак, вопросить простодушно и наивноголубоглазо: как бог на душу положит…
Художественность и есть такая наивность и целомудрие, простодушие и безыскусственность — именно — а не искусство…
Другое дело, что много усилий требуется, чтобы удержаться на этой позиции незамутнённого зрения в нынешнем мире: чтоб снимать бельма и шоры, отовсюду предлагаемые и налипающие, — это уже сравнимо с врачебной техникой: много приёмов, то есть искусность требуется, чтобы противостоять искусственности цивилизации и культуры нынешней: приёмы, так сказать, контрискусства. Это — как поток сносит тебя вниз по течению, а ты выгребаешь, чтобы на той же точке недвижно стоять: наивное целомудрие и голубиное простодушие — через змеиную мудрость достигаемы и осуществляемы, оказывается. Недвижность и статика — через мощнейшую динамику.
И вот мы, наконец, вышли к тому, чтобы воздать — искусству и мастерству, которое так я попрал-унизил в начальном разбеге на мысль, и что меня уже давно жалило как перекос и несправедливость; и чувство вины перед ними, нарастая в упругости, искало возможности так изогнуть мою мысль или щель-прорыв в ней найти, чтобы внедриться и самоутвердиться.
И вот — чрез диалектическое сальто-мортале — для безыскусственности требуется искусство! — мы разрядили напряжение и примирили стороны. И теперь со спокойной совестью можем вдаться в гимн искусству и мастерству: промыслить, что они значат?
Если в первой части рассуждения нашего упор делался на познании и содержании, и для того — ценились неусилие и расслабление, образ наивняка Ивана-дурака, юродивого, нам потребовался как «моделирующий» — в противовес архиактивности и усильности производства, науки, техники (каждая, всё ускоряясь, прущая в свою часть и сторону, прочь от центра целого, где вечно должно удерживать свой глаз и точку «искусство», художественная литература), — то теперь человек как деятель-ваятель и со-творец в мире да будет восславлен и понят! Познание-приятие наличного: «понять-простить» — верно говорится. Творение ж исходит из недовольства наличным бытиём: в нём чего-то недостает, и я чувствую себя призванным восполнить эту* недостачу. Тут — атеизм: упрёк-укорение бога в несовершенстве созданного им мира. Творчество-богоборчество, Прометеево дело и его огнём одушевлённая работа.
Но это только одну я ценностную установку изложил из возможных постулатов о творчестве. И так его можно понять: как продолжение рождающей силы Природы. Художник — мать и акушерка при себе: приёмы мастерства — это акушерство, помогающее чреватому художественной идеей разродиться. В бессознании и сомнамбулизме поэт отдаётся наитию вдохновения, как осеменяющей его силе — и в акте творчества рожает исчадие произведения, как пчела, паук нить ткёт — с тою же природной необходимостью. Если в первом варианте толкования смысла творчества художник аналогичен мужскому началу бытия, то во втором он выступает как его женская ипостась.
Тут — пассивность: есть причина (напор жизненных сил природы во мне), но невнятна цель рожания-творения, тогда как при первом толковании художник ведом спереди: образом цели, что маячит, как то небытие, что волит-хочетстать бытиём. Тут разум и воля веселы и активны в мастере, и игрища с ленивым и сырым материалом природы, фактов, данностей нас тут веселят-радуют как упражнение мощи духа, его власти и его свободы над наличным.
Здесь и находит свой смысл и оправдание толкование искусства — как игры: в нем силушка творческих способностей человечества по жилушкам переливается — и мы ликуем-радуемся, се через неимоверные выверты и озорства искусства над материей и внешним, так сказать, «содержанием» в себе упражняя, воспринимая, созерцая. Неожиданные конструкции, ритмы, формы, преобразования, сцепления-ассоциации идей, образов — вся эта «божественная игра» творческой в нас мощи — действует освободительно, как надежда и залог преодолений и преобразований того гнетущего, что есть и в обществе, и в природе, в их сейчасном и наличном устроении. Так что то, что на внешний-плоский погляд кажется «штукарством» и «выкрутасами» (а не восхищаемся ли мы только этим в циркачах и эксцентриках?), есть излияние потока содержаний на материю — как форму и пассив (в том числе и «жизненный материал» в повествовании), на котором опредметиться и материализоваться идеям и идеалам, фантазиям и перекомбинаторикам, что, источаясь спереди, из цели развития человечества, позволяют себе свободное обращение со всем ныне достигнутым и отяжелевшим в инерции существования.
И тут-то творец-художник выступает тоже несвободным: только не сзади (из причины как природно рожающий), а спереди, из цели всего человечества и бытия, которая им смутно угадывается иль в озарении творческого акта вдруг ослепительно ясно предстает на миг, но ведёт со сверхличной силою, что и нам затем передаётся, воспринимающим произведение его. Оно и его, и не его, наше, им лишь представительно осуществлённое. Художник здесь пребывает на уровне возможных долженствований быть-стать с жизнью, и природой, и обществом, и человеком. Его уже идеал — не Истина-естина как констатация наличного и настоящего, и не с нею спаривается Красота, как в триаде классической: Добро, Истина, Красота, — но первее даже Истины она становится: как представитель-выразитель имеющего наступить Высшего Блага, гармонии. Эту мысль сильнейше прочувствовал Достоевский, сказав:«Красота спасет мир» — не Истина даже, её он пониже ставил (вспомним его знаменитый парадокс: если бы как-нибудь оказалось, что истина разошлась бы с Христом, то я предпочел бы остаться с Христом без истины, нежели с истиной, но без Христа).
И тут та именно «истина» уловлена, что в понятии истины как «естины» закрепляется наличное состояние вещей и не слышится долженствования, в ней — перевес тяжкий настоящего и прошлого (где зона причин полагается в науке и исследовании). Красота же выступает как свободная от гнёта «естины» свершившегося — Истина Цели, ипостась — образ грядущей, возможной и должной Истины, как совершенства Целого. Потому её в эстетической традиции недаром увязывают с понятием Целесообразности, тогда как научное познание истины существующего прислоняет себя к миру не целей, но причинностей.
Когда мы в контексте таких сверхценностей вывели деятельность художника по переформовке материала природы иль жизни, или истории, иль идей и понятий, теорий и концепций, — мы художественность теперь понять должны как такое творчество, в котором сочится весь описанный только что крут смыслов. Теперь мы уподобим художника не инертному Ивану-дураку иль необразованному юродивому, но искусившемуся — и превзошедшему наличную образованность и цивилизованность и техничность: он вылетел из них в свободу и вверх (побуждаемый при том волнением самой наличности и уровнем истории и культуры — измениться, превзойти себя) и средь открытых горизонтов озирает возможные поприща бытия и деятельности и должные ценности и цели и идеалы, и, исходя из них, изображает наличную жизнь, преображая её, воздымая — даже трагедию и горе — в свободу и катарсис, куток жизни «в перл создания» возводя, как выражались старомодно…
И тут уж предельная мощь требуется воображения именно — в реализме: ибо зачерпнуть весь массив и увесистость текущего существования в его тяжких формах и правдоподобии, и вознести ввысь, на уровень открытых горизонтов — о! это значит такой сопромат преодолеть!
Вроде теперь прояснился-наполнился у нас объём понятия художественности: основные его аспекты перебрали.
Как же быть со всем этим разнообразием молодому художнику? А дуй кто во что горазд! К чему у тебя талант-перевес, то и упражняй (поначалу; это потом, взойдя в силу, можешь поперечными себе задачами задаваться: если ты — игрок поэтическими размерами-ритмами прирождённый, поставь себе задачу в образах-«имажах» невиданных сцеплений след проложить; если ты — вольный фантазёр-ассоциативник, окунись в гущу реальности эмпирической и её прорежь пламенем образов; если ты — мастер натуры, попытайся возлететь в фантазию… и т. п.): на поприще раздольном художественности всякому есть ширь и даль.
Только — не вымучивай — себя и из себя! О, как это уныло, когда сталкиваешься с такими потугами в человеке: непременно поддерживать свою марку-звание «поэта», «писателя» (членство, звание, профессия — обязывают ведь!), хотя уж выложился он на первой книге, и ни материала, ни огня в нём более нет, а он искусственными приёмами-протезами мастерства себя стимулирует, гальванизирует… О ужас! Некрополь то и некролог, а не живая литература. И не только не высвобождающе действует соприкосновение с таким вымученным произведением, но страшно угнетающе: как зрелище нашей тени и брени, смерди и смертности.
Художник должен ещё одну заповедь иметь в виду и исполнять: быть свободным и от художничества своего, не быть рабом его. И если тебе открылись иные ценности и формы деятельности, а своей художнической прежней ты устыдился (а есть за что: вглядись каждый в себя лучом совести: Толстой ведь устыдился, а тебе, выходит, не за что!), оставь. С музой брак по расчёту не выходит, но лишь — по любви, как с Кармен. И если она тебя разлюбила (или ты её — как Толстой), — рви! Не клином на искусстве сошёлся мир архиценностей человеческих.
О призвание и профессия! Сколь разные эти «вещи» и как склонны смешивать их люди! Призвание — это зов спереди, из цели, и ты «иди, куда влечёт тебя свободный ум» иль «жалкий жребий». Профессия ж — это статут в настоящем разделении труда. Призвание — отвердевает в профессию, причём каждый творческий человек создаёт особую свою профессию: особое дело открывает… Но верным надо быть — призванию, а не профессии. Призвание есть живая тяга, что раздувает огонь в пещи профессии. Призвание — живо и подвижно, как и жизнь сама, и идёт сквозь жизнь, прорастает, как древо иль змея, меняя- сбрасывая шкуры профессий разных — за жизнь одного человека.
Противен этому интерес разделения деятельностей и в производстве: тут важно, чтоб каждый сидел на месте и исполнял неукоснительно ту конвейерную операцию, что начал и на что поставлен. Раз ты поставлен работать«поэтом», — ну и не рыпайся, поэтствуй всю жизнь, раз тебе так положено по книжке Союза писателей. Потому-то поэты, как наиболее чуткие из художников и ранимые на совесть и кристальность любви музы, и на смертьторопятся-прут как на рожон. Не внешние случайные обстоятельства сходились, чтоб погублять поэтов призванных и избранных (как мы любим ахать: как рано! и если бы ещё!), но тайный зов влёк их самих, как мотыльков на огонь…«Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Любовь и Смерть — соседни. Эрос — влечение и к смерти есть в нас…
Призвание — как любовь. Профессия — как брак. Они могут совпадать временно или на всю жизнь. Но тождества меж ними нет.
Призвание — из цели. Профессия — из Истины-естины наличного.
А в заключение — вопрос-загадка к читателям: то, что вы прочли только что, — художественное или не художественное?
Текст: Георгий Гачев (цитируется по изданию «Мастерство писателя: Антология журнала „Литературная учёба“ 1930–2005». Москва, ЛУЧ. 2005 г.)