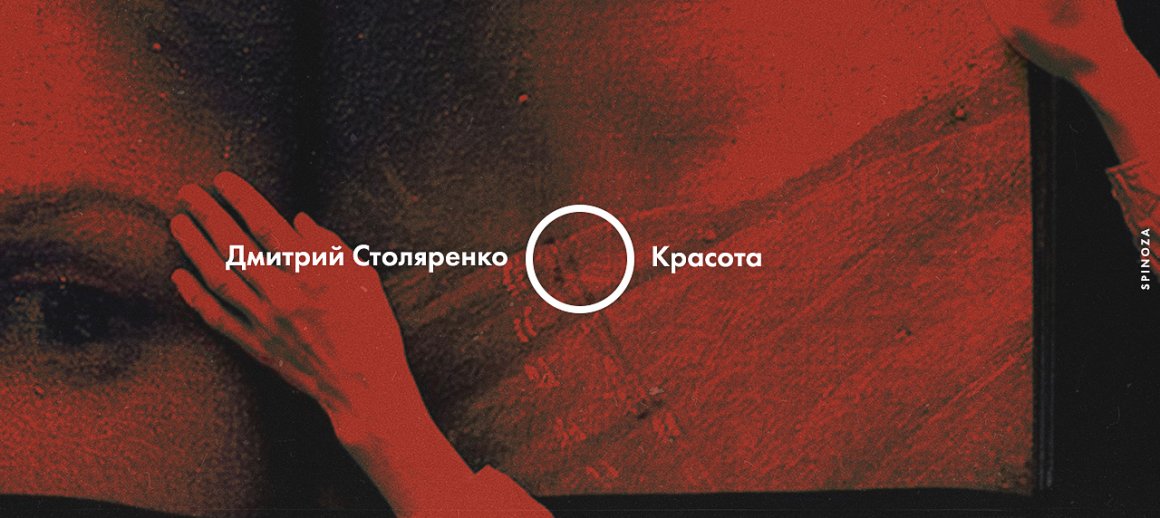Черновик этой статьи впервые появился едва ли не год назад и представлял собой робкую попытку дать обзор различных вариантов понимания прекрасного, в преодолении которых, по моему замыслу, и должно было появиться понятие красоты вообще, прекрасного как такового.
Впрочем, от исходного варианта не осталось ни строчки. Теория, определенный гносеологический вывод, даже находя свое частное выражение в размышлениях отдельного человека, не становится результатом произвола или тщетно ищущего опоры теоретического обзора, а является ответом на настойчивое требование жизни, необходимым моментом организованной деятельности.
Таким образом, спустя год моим ответом на вопрос о том, что такое красота, будет:
Красота есть осуществление человеческого вообще
Такая формулировка может служить лишь исходной абстракцией нашего рассуждения. Теперь мы должны привести ее в движение.
Первым вопросом, который неизбежно должен возникнуть, будет: что же такое человеческое? Не отбросит ли нас такая формулировка сходу в платонизм, ограничившись внеисторической идеей “человеческого”, мерку которой мы будем применять к тому или иному предмету, факту действительности (да и самому человеку) дабы определить – достаточно ли в нем человеческого, чтобы он назывался красивым?
Разумеется, нет. Если уж мы исходим из простейшего определения человека как существа деятельного и не сводим человека к отдельному индивиду, человеческое есть:
- Исторически-преобразовательное, то есть преобразующее не только природу, но и общество, а также сам способ этого преобразования. Т.е. человеческое – это революционное.
- Исторически-преобразовательное – т.е. существующее только как совокупность всех исторически-конкретных общественных отношений, к тому же пребывающих в постоянном движении собственного отрицания.
Такое понимание “человеческое вообще” дает нам возможности избежать как релятивизма и солипсизма в понимании красоты (опирающегося на совокупность индивидуальных мнений по поводу красивого, или исходной предпосылкой рассуждения определяющего отдельного наблюдателя, воспринимающего мир через органы чувств), так и объективного идеализма, выводящего красоту из специфики самого предмета. При этом, мы также преодолеваем понимание прекрасного как совершенного или уникального в своем роде (т.е. отождествляющего прекрасное и идеальное): в реальном мире прекрасным может оказаться человек, не лишенный внешнего или внутреннего изъяна, но при этом всем движением жизни своей помогающий в действительности осуществиться человеческому; или предмет искусства, далекий от совершенства, скажем, в своей форме – но также становящийся прекрасным в силу того, что он становится частью исторического движения человечества по возвращению своей собственной сущности, преодолению отчуждения, превращению всех вершин человеческой культуры во всеобщее достояние. (Как тут не вспомнить “Что делать?” Чернышевского – книгу, имеющую серьезные огрехи в отношении литературной формы и языка, но являющейся бесспорной классикой – не по оценкам критиков или читателей, но по роли, которую книга сыграла в этом движении).
Это подводит нас ко второй важной мысли: красота не есть “свойство” в смысле формального предиката чего-либо, но процесс постоянного осуществления этого человеческого. Именно поэтому не бывает одной раз и навсегда данной красоты. Ее идеал может изменяться исторически, красота может переходить в собственную противоположность, “красота” как идеологический и маркетинговый конструкт может радикально отличаться от действительной красоты. К тому же, это подводит нас к простому выводу о том, что деление на “внутреннюю” и “внешнюю” красоту иллюзорно, и бесплодна оказывается и мысль о “нравственном самоусовершенствовании” как самоценности в отрыве от практики, исторического движения – поскольку вне общественно-революционной деятельности красота не может быть осуществлением человеческого (практикой человечности), а значит и вообще быть.
Вопрос о различии идеала красоты, скажем, у различных классов общества или в разные исторические эпохи подводит нас к третьему пункту, который состоит в том, что красота есть осуществление не представлений о человеческом, но объективно-человеческого, человеческого вообще, реализующегося как теоретическое, политическое и экономическое движение силы, в данных конкретных условиях выступающей на переднем крае истории. Поэтому нет и не может быть никакой красоты, скажем, в искусстве, которое ставят себе на службу отчаянно цепляющиеся за обломки прежнего мира. Красивое становится конкретным, но не скатывается в вульгарно-социологический редукционизм и детерминизм.
Таковы предпосылки для понимания того, что есть красота. По сути, мною здесь не сказано ничего нового по сравнению с формулировкой Чернышевского о том, что “Прекрасное есть жизнь”. Впрочем, его эстетическое наследие уже изрядно подзабыто, а значит впереди предстоит долгая работа.