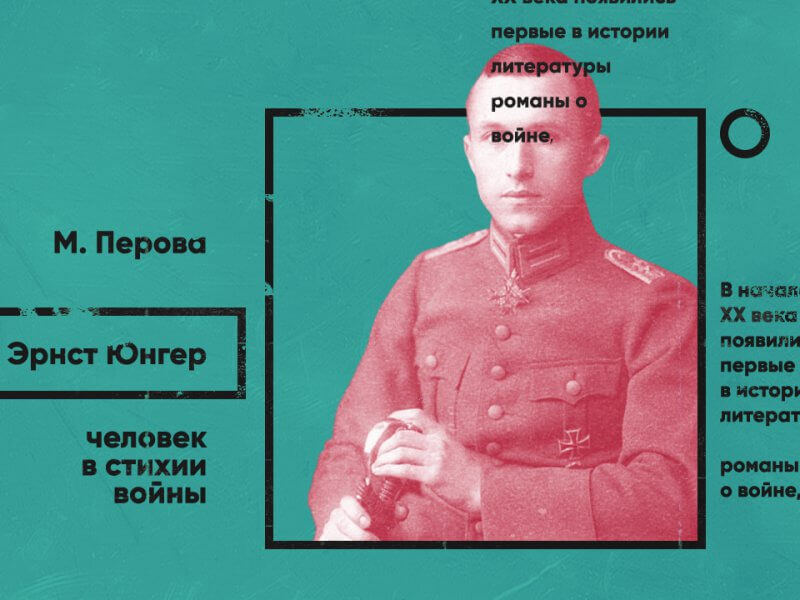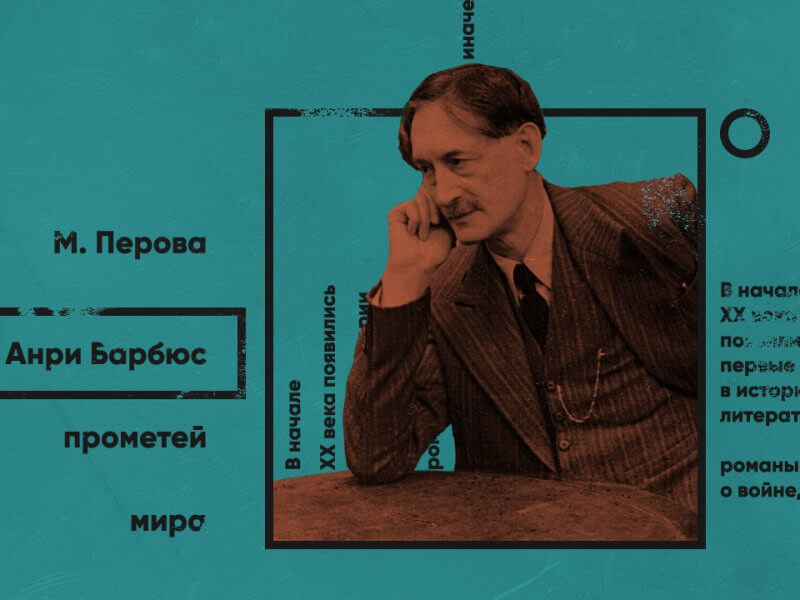Искусство концентрирует в себе прекрасное (по крайней мере, хорошее искусство). Это (при самых оптимистичных раскладах) знает каждый. Однако что еще мы о нем знаем наверняка? Когда появилось то, что мы сейчас называем искусством? Какую роль играет в развитии человека в личность? Почему без него не обойдется любое изучение истории? А ведь в здании человеческой чувственности искусство – это не невнятная лепнина вдоль балкона, которой можно любоваться, а можно и вовсе не заметить, а одна из несущих конструкций. Игнорировать ее если и можно, то разве только допуская мысль, что здание стоит само по себе.
Искусство воспитывает в человеке человеческое – и это не просто лестная фраза, это довольно конкретное утверждение, ведь способность чувствовать, а особенно чувствовать другими – со-чувствовать, есть специфически человеческая способность, не записанная в генах и не получаемая от природы, а развиваемая человеком веками в форме искусства. И нет иного способа научиться чувствованию, как через «потребление» созданной человечеством культуры. Чувственность играет огромную роль в становлении личности, и особенно – в познании. Нельзя понять то или иное явление, если прежде оно не было схвачено чувствами в самых разнообразных формах.
Лучший способ понять что-то – изучить его в свете истории, об этом мы еще поговорим. История – сокровищница человеческого опыта, а искусство – сокровищница человеческого чувствования, та же история, запечатанная в краски, ноты или печатные страницы. Искусство каждой эпохи отражает не только эпоху, но и зрелость видения эпохи внутри себя – глазами художника, то есть глазами всего общества. Оно делает это часто еще до того, как появляется ее научное осмысление. Искусство – это история в движении, остановленный момент жизни, сохраненный для других поколений. И самое интересное в искусстве начинается тогда, когда художник сам ставит цель объяснить, разобраться и показать историю в любом ее проявлении.
Искусство как специфическая отдельная форма человеческой деятельности окончательно выделилось не так давно — в эпоху Возрождения, хотя сама изобразительная практика возникла чуть ли не с возникновением самого человечества. Однако отождествлять их нельзя. На ранних стадиях изображение, если оно представляло бога, мифологического героя или святого, было элементом религиозно-мифологических практик. С этим связан и тот факт, что имена иконописцев и греческих скульпторов в основном остались нам неизвестны (до нас дошли лишь немногие легендарные имена – Андрей Рублев, Феофан Грек) – считалось, что их действиями движет не собственная воля, а божественное провидение, а значит, имя, то есть личность человека, не важны.
Нерасчлененность, синкретизм изобразительных практик до выделения искусства были еще и в том, что изображение и изображаемое не разделялось — Зевс в мраморе и есть тот самый Зевс с Олимпа, а Христос на иконе – тот самый настоящий Христос. Ему потому и можно молиться, несмотря на его абсолютную плоскость. В изображениях реальных людей, — например, в статуях олимпиоников, – изображение начинает отделяться от изображаемого; то же касается римских скульптур. Это – длительный процесс, прошедший различные этапы. Но это — отдельная тема. Здесь мы можем только обозначить некоторые моменты, чтобы помочь читателю ориентироваться в том, о чем идет разговор.
Еще до возникновения искусства как чего-то отдельного и самостоятельного, любое изображение основывается на том, что потом станет сердцевиной искусства – на образе. Образ сам по себе и есть искусство. Именно поэтому разрушение образа, свойственное постмодернизму, есть разрушение самого искусства. Человек всегда изображает сам себя – свое отношение к миру и к другому человеку, свою эпоху, будь то изображения богов или бога, властителей, святых, и мифологических героев. И понимать, видеть искусство он может только там, где есть человек или сюжет о человеке. Именно потому художник может выразить дух целой эпохи в одном-единственном портрете, и порой это будет полнее и умнее, чем полотна, полные армий, костюмов и архитектурных нагромождений. Потому что портрет, прежде всего, заставляет зрителя самому быть героем портрета или чувствовать этого героя, а потому сопереживать, печалиться, радоваться, недоумевать вместе с ним.
Сначала образ кажется художнику чем-то внешним и чуждым, ищущим выражения посредством его, художника, руки. Христос кажется ему неизменным и понятным как образ, и он пишет его таким, каким он неизменно и обязательно (как ему представляется) есть. Однако даже такой, казалось бы, стабильный в своей трактовке образ, как Христос, претерпевал невероятнейшие метаморфозы, когда претерпевала метаморфозы и общественная жизнь. Ярким примером тому – появление в Средние века, эпоху крестовых походов, иконографий Христа-воителя («Сошествие в ад», «Христос, ступивший на чудовищ»), хотя сам образ Христа по сути – чистейшее выражение не-воительности, даже анти-воительности.
Пока художник есть, по сути, орудием интересов церкви, аристократии или монархии, выразителем личных интересов заказчика, искусство становится искусством лишь частично. В качестве наглядного примера мы можем рассмотреть слабые, однако более чем интересные ростки только пробивающихся в общественную жизнь Ренессанса исторических сюжетов.
(оригиналы всех картин в высоком разрешении доступны по клику)
Оба художника изобразили прославленные флорентийские битвы: Леонардо — битву при Ангиари, Микеланджело — битву при Кашине. Изобразили прекрасно, с большой любовью к деталям и титанически трудясь над реалистичностью изображаемого — однако никаких исторических битв здесь все равно нет. Да и ни о какой истории вопрос не стоял. На картинах — красивые тела, композиции из восхитительно написанных коней, однако никакого понимания, анализа происходящего все еще нет. Художник не пытается разобраться в том, что изображает, и не дает это сделать зрителю. Он просто пишет оторванный сюжет, обозначая его историческим названием. Как и искусство еще сложно назвать настоящим— по сути это еще ремесло, и собственного творчества в нем мало: сюжет диктует заказчик, манеру устанавливает (за периодическим исключением) общественный вкус. Полное же освобождение искусства осуществляется лишь тогда, когда художник становится выразителем интересов не отдельного класса, не церкви или знати, а всего общества.
Освобождение художника означает открытие им возможности создавать образ самостоятельно, то есть не просто выражать уже сложившееся (стихийно или целенаправленно кем-то) мнение о человеке или событии, а самому его осмысливать, не оглядываясь ни на всеобщие мнения, ни на то, чем образ (человек или событие, эпоха) хочет казаться по собственной логике. Тогда и появляется то, что принято называть историческим искусством — сначала в несколько наивной, героико-патетической форме, а потом уже как глубокое, целостное общественное явление, которое можно рассматривать уже не как простой продукт эпохи, но как попытку сознательной оценки, глубокого ее анализа. Тут и начинается настоящее постижение истории чувствами, важность которого нам предстоит разобрать. Изучение истории — это то, посредством чего мы и учимся мыслить себя и общество, анализировать, сомневаться в прошлом и настоящем. Идеальным предполагаемым последствием изучения истории должно быть ощущение целостности, единства прошлого с настоящим, сопричастности историческому процессу и индивидуальной ответственности за историю, в некоторой степени способность понимать смысл и последствия происходящего. Все вышеперечисленное в совокупности принято называть историческим чувством.
Откуда же берется историческое чувство? Чувство истории возникает у человека, когда он начинает изучать историю не пассивно, а творчески. Когда ставит под сомнение необратимость произошедшего и прогресс человечества. Историческое чувство возникает у человека, развитого эстетически, обладающего живым, здоровым воображением. Для формирования такого восприятия человек должен изучать историю не только через сухое соотношение дат и событий, а чувственно, через образ, созданный художественным гением. Эта самая чувственность, однако же, необходима человеку для любого другого вида деятельности. Это — скорее вопрос восприятия мира, чем частного случая с восприятием истории. Эту мысль в своих статьях неоднократно выражал талантливый советский философ Эвальд Ильенков. В статье «О специфике искусства» он пишет, что искусство развивает «всеобщую, универсальную человеческую способность, то есть способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности и познания — и в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде».
В своей статье о чувстве истории Паустовский писал, что роман Алексея Толстого о Петре I дал ему намного больше, чем любое историческое исследование о тех временах. Почему? Потому, что кроме сухих фактов, хорошее художественное произведение дает человеку ощущение живого участия в далеких событиях. То же самое можно сказать и об изобразительном искусстве, в частности, об исторической живописи. Она способна формировать у человека представление об эпохе, ощущение ее специфичности в общей совокупности эпох, но так же и внутреннюю «общность» ее, связь с историей в целом. Хорошее историческое полотно определяется наличием в нем духа, уловленной особенности изображаемого, но не особенного костюма и архитектуры (хотя и без этого не обойтись), а чего-то более тонкого, слабо уловимого, чего-то, находящегося на стыке фактического и чувственного, исторического и психологического. Художественное воображение, здоровое историческое видение художника и его непрекращающийся внутренний диалог со зрителем порождает образ. Именно через него и понимается история. И очень важно, чтобы образ был не помещен в эпоху, современную художнику, но чуждую самому образу, и не выглядел потворством всеобщим мнениям. Тем более он не должен находиться под влиянием суждения образа о самом себе: отличным примером для этой сложной формулировки является театрально смелый и театрально благородный «Наполеон на императорском троне» Энгра и уставший, человеческий «Наполеон на Бородинских высотах» Верещагина. Но об этом — позже.
Образ не всегда ведет себя так, как того желал бы художник, а тем более зритель. Не думаю, что Василию Ивановичу Сурикову хотелось бы, чтобы над боярыней Морозовой так откровенно потешалась толпа, а Ивану Репину наверняка хотелось бы видеть ступившего домой героя полотна «Не ждали» хотя бы немного более светлым и радостным. А Гойе наверняка и вовсе не хотелось бы видеть своими глазами все те образы, которые он объединил в серию офортов «Бедствия войны». Но что уж говорить, время не спрашивает художника. Другими словами, настоящим художником движет развитая в нем и через него необходимость как свобода. Она возникает, когда художник чувствует и знает, что ему нужно писать, что нужно рассказать обществу. Он не всегда сам того желает, но не может этого не сделать. Порой образ мучает художника, не отпуская годами, как мучил Репина образ стрелявшего в царя Д. Каракозова, чью казнь видел художник в молодости, и потом не раз пытался его осмыслить в посвященных революции полотнах. Гегель видел специфическую миссию художника именно в развитии у человека способности созерцать мир «человечески развитыми глазами», то есть не просто смотреть и видеть, но созерцать и понимать. В частности, если говорить о живописи исторической, художник выступает неким посредником между миром фактов и миром красоты и чувственности, человеком, который охватывает то и другое одновременно и не видит между ними различия.
За три века существования русской исторической живописи она дала множество прекрасных образцов такого подхода. Однако, и углубляясь в самую прекрасную живопись, нужно быть предельно осторожным с принятием изображенного и пониманием его. Как сказано раньше, времена самого зарождения этой изобразительной традиции в исторической картине было мало чувства истории. Ранней классической традиции была присуща театральность, постановочность, потворство (хоть и часто неосознанно) общественному преклонению перед высоким саном. Такие картины, обладают множеством преимуществ вроде прекрасной техники исполнения, красоты цветовых и пластических решений, влияния на такую живопись античных взглядов на человека. Однако же они вряд ли сформируют у зрителя верное понимание эпохи.
Ярким примером такой работы является одна их известнейших картин Карла Брюллова «Последний день Помпеи». В любой статье об исторической живописи вы встретите упоминание о ней. Мало того, это будет упоминание о ней как об одном из лучших исторических полотен русской живописи. Произведение манит красотой и выверенностью колорита, античной отточенностью форм человеческого тела, игрой светотени, своей драматичностью. Однако эта картина — яркий пример исторического сюжета, принесенного в жертву форме. Мало того, что архитектура картины основывается на неестественных позах людей и неестественных цветах их одежды, и вообще слабом соответствии одежды исторической, да еще и весь ужас изображенной трагедии предстается как прекрасная легенда, а не как катастрофа, случившаяся сотни лет назад с живыми, настоящими людьми.
То же самое мы можем сказать о французском изобразительном искусстве начала 19 века. С него нужно было начать, потому что там и зарождается первая историческая живопись — первые попытки осмысления настоящей, не мифологической и не библейской истории (хотя в самом начале первая порой выглядела как последняя). Гро, Давид, Энгр, Курбе и Делакруа пытаются найти новые формы выражения для новых сюжетов. Однако ранние попытки выглядят с точки зрения понимания истории более чем робко, хотя с точки зрения развития искусства более чем прекрасно и важно. Перейдем к примерам. Образ Наполеона у неоднократно писавшего его Энгра (как, собственно, и образ Жана Гро) — не более чем поддержка мифа о Наполеоне, потворство тому, что Наполеон мнит о самом себе.
Не исключено, что видение художником этого образа совпадает с этим мнением, однако такая позиция — самое легкое, что может себе выбрать художник, пишущий на историческую тематику. Вы можете сказать — художник был вынужден так писать, ведь Наполеон же сосредоточил в своих руках всю власть. И будете правы. Однако тут можно и даже нужно вспомнить, что недалеко от Жана Гро и Энгра, недалеко географически и хронологически — в соседней Испании живет придворный художник Франсиско Гойя, пишущий на портрете королевской фамилии глупого короля — глупым, а уродливую королеву — уродливой. Портрет, изображенных на котором людей один из современников Гойи назвал «семейством булочника, выигравшего в лотерею». Но это яркий и поразительный пример редкой художественной честности, которую еще предстоит изобрести художникам 19 века.
Однако заговорив о французском искусстве, мы не можем не сказать о зарождении настоящего, целостного исторического образа, первой попыткой создания которого можно назвать знаменитую не только в свое время картину Жака-Луи Давида «Смерть Марата». Марат, журналист радикальной газеты, был заколот аристократкой Шарлоттой Корбе, когда принимал овсяную ванную (Марат страдал тяжелым кожным заболеванием). На картине Давид изображает последний вздох революционера, горестное лицо, приглушенный свет. Монументальная, драматическая композиция картины напоминает изображение Христа. Это полотно надолго осталось символом Французской революции, настоящим памятником ее героям, хотя никакой исторической характеристики полотно еще не дает.
Попробуем посмотреть на историческое полотно совсем другого времени и совсем с другой стороны — рассмотреть авангардную живопись, посвященную исторической тематике. Известнейшей работой такого рода является картина Пабло Пикассо «Герника». Это полотно, претендующее на звание исторического, совершенно не содержит фактов и иллюстративного материала, изображения материальной культуры, намеков на время происходящего или хронологию событий. Однако оно интересно именно своей чувственной стороной, эмоциональной оценкой события. Это произведение возможно воспринять верно лишь в том случае, если вы знакомы с изображенными событиями. На картине объединены образы матери с младенцем, искаженных в странной болезненной позе, кричащая лошадь, упавший солдат с отрубленной рукой. Вместе они дают новый образ, а черно-белая гамма и резкий контраст, душность и драматичность только усиливают его. Это полотно отлично создает настроение, атмосферу, заставляет зрителя сопереживать. Эта картина могла бы быть иллюстрацией к любому ужасному событию любой войны, любого города любой страны, независимо от времени. Например, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. «Герника» могла бы отображать ужасы оккупационных режимов, партизанской войны. Изображенные на ней символы вневременны, точнее выражают широкое историческое время, а не конкретное событие.
По основной идее произведения Гернику можно было бы сравнить с не менее известной работой Верещагина «Апофеоз войны» — по отсутствию на изображении фактов, определенных событий, по образности и символике, и по отсутствующему при этом историзму.
Итак, та историческая живопись, о которой говорилось ранее, которая способна развить человека эстетически, взрастить в нем воображение и целостность, логичность мышления, по хронологическим координатам лежит где-то между романтизмом и авангардом.
В истории русской живописи есть несколько примеров произведений, авторы которых обладали потрясающе верным историческим чувством. Прежде всего, хотелось бы упомянуть Сурикова и его известнейшие полотна на историческую тематику, первым из которых стоит назвать «Утро стрелецкой казни». За основу художник берет сюжет подавленного восстания стрельцов. На полотне он изображает стрельцов, ожидающих казнь, всеобщую человеческую трагедию народа, массу простых и маленьких людей, каждый из которых все же — личность. На одной части картины оценивающе всматриваются в «простых и маленьких» бояре и солдаты под предводительством монарха Петра, а с другой стороны не всматривается никто, каждый погружен в собственное и всеобщее, безысходное горе. Образ Петра передан очень ярко — осуществляя казнь несогласных из собственного народа, он полон сознания правоты, и взгляд его сверкает праведным гневом. Не менее поражает образ рыжебородого стрельца слева на картине, единственного осмелившегося отразить взгляд Петра, второго главного персонажа картины, его ненависть и сила непримирения.
Не меньшей силой обладают и другие работы Сурикова — «Меншиков в Березове» и «Боярыня Морозова». На бессловесной плоскости полотна всеми возможными словами и чувствами играет человеческая трагедия — трагедия непонятой правоты, трагедия обездоленного одиночества. Каждый образ обладает целостными характеристиками личности, полноправного действующего персонажа — выражено ли это в элементах одежды, в выражении лица, во взгляде, в положении тела. Художник не ругает, не сетует, не восхищается — он честно и ясно показывает зрителю историю, предоставив ему самому возможность судить.
Во всех его работах присутствует очень уместный, соответствующий изображенным эпизодам исторический психологизм, направляющий зрителя в понимании события. Отсутствие излишней драматизации, и даже наоборот — трагедия отсутствия трагизма в изображенном событии (в частности, в работе «Боярыня Морозова») целостно и честно отображает общество того времени, рисует портрет обыкновенного народа во всей многогранности характеров и мнений.
Не менее проницательно в этом смысле творчество Ивана Репина. Многие его картины мы видим с детства, некоторые вошли в пословицы или стали нарицательными, однако его сложные сюжеты заслуживают внимательного и глубокого рассмотрения. Начнем с полотна «Бурлаки на Волге». Изображены уставшие, с потемневшей кожей, суровые мужчины, объединенные нечеловеческой работой. Как бы они не казались одной неразделенной массой, все равно при внимательном рассмотрении видны настоящие люди, с характерами и главное — чувствами. На картине — толпа больных и уставших людей, униженных до животных, в которых здоровый, развитый человек должен был увидеть призыв к действию, рычаг к изменению такого человеческого строя, когда бесчеловечность есть норма.
Отдельное место в творчестве Репина занимает картина «Отказ от исповеди перед казнью». Молодым художник видел казнь революционера Д. Каракозова, стрелявшего в царя — этот эпизод и особенно образ самого Каракозова чрезвычайно поразили его. В своем творчестве художник не единожды пытался его осмыслить. На картине измотанный, одетый в тряпки человек, по сюжету ожидающий казни, с презрением оборачивается на священника. Перед лицом смерти он выглядит несломленным и гордым, готовым жить дальше, как никогда прежде не был готов.
В галерее русской исторической живописи важное место занимают полотна Верещагина. Этому художнику, знающему войну изнутри, а совсем не понаслышке, принадлежит глубинное реформирование батальной живописи. Верещагин одним из первых изобразил войну как страшное бесчеловечное бедствие, а не как прекрасное приключение для смелых. Сделал он это, правда, немного позднее Гойи, но самостоятельно. Коренное независимое изменение взглядов в схожее время в совершенно разных местах еще раз доказывает, что художник видит не собственными глазами и его взгляды не случайное соединение индивидуальных характеристик и личных переживаний, а результат своей эпохи и глаза того общества, в котором он живет.
Одним из гениальнейших исторических полотен не только Испании, но и всего мирового художественного авангарда является «Расстрел 3 мая 1808 года» — по яркости образа и по чувству, вложенному художником в полотно, настолько умному чувству, которое поражает зрителя огнем, но не позволяет всему сюжету скатиться в полную однозначность его трактовки.

На картине — эпизод из истории Испании начала Испанской революции 1808 года. После первого эпизода восстания вышел приказ расстреливать каждого, при ком будет обнаружено оружие любого рода — первые расстрелы прошли 3 мая 1808. На картине один действующий персонаж — доведенный до отчаяния, а потому безрассудно смелый народ, беззащитный и в то же время мощный. Свет падает на революционера, распахнувшего руки перед солдатами, безлико выстроенными в ряд, спиной к зрителю — люди, вообще не наделенные художником характеристиками людей, а представленные орудием, карательной машиной французской оккупации. Эта картина надолго осталась символом бессилия и безрассудства, и одновременно мощи простого человека под колесами жестокой истории.
Итак, роль художника в формировании у человека чувства истории и развития в нем универсальной чувственности огромна. Но ведь создают исторические полотна такие же люди как и те, что их впоследствии созерцают. Они обладают такими же органами чувств и, иногда, восприятием. Часто художник живет в совершенно другой эпохе и времени, и разумеется не является участником изображаемых событий. Так как же передать художнику собственно дух той эпохи, красоту или безобразие которой он собрался раскрывать? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо снова вернуться к вопросу о природе чувственности. Дело в том, что художник, чтобы быть настоящим художником, должен в полной мере обладать тем, что он хочет развить в зрителе. Единственным путем к развитию чувственности является изучение и созерцание достояния мирового искусства, всего, что было создано раньше.
Но это на данном этапе истории необходимо не только художнику, но и каждому человеку, чтобы человечество развивалось дальше. Как писал Ильенков, «речь идет о том, и именно о том, чтобы каждый человек имел время и возможность в каждой из сфер деятельности быть на уровне современности, на уровне развития, которое уже достигнуто всем человечеством — усилиями и Рафаэля, и Бетховена, и Эйнштейна, и Лобачевского… Но чтобы каждый индивидуум был выведен в своем индивидуальном развитии на «передний край» человеческой культуры — на границу познанного и непознанного, сделанного и несделанного, a затем мог свободно выбрать, на каком участке ему двигать культуру дальше, где сосредоточить свою индивидуальность как творческую единицу наиболее плодотворным для общества и наиболее «приятным» для себя лично способом…»
Художник должен в первую очередь быть человеком с развитыми чувствами. Ни в коем случае нельзя художнику порывать в процессе творения с будущим зрителем — это грозит погружением в гибельную идею «искусства для искусства», развитием безобразного формализма. Нельзя забывать, что художник — в огромной степени педагог, обладающий огромной и прекрасной силой — силой прекрасного, силой преобразить человека, а значит, и окружающий мир.
Текст, постер: Дарья Кавелина