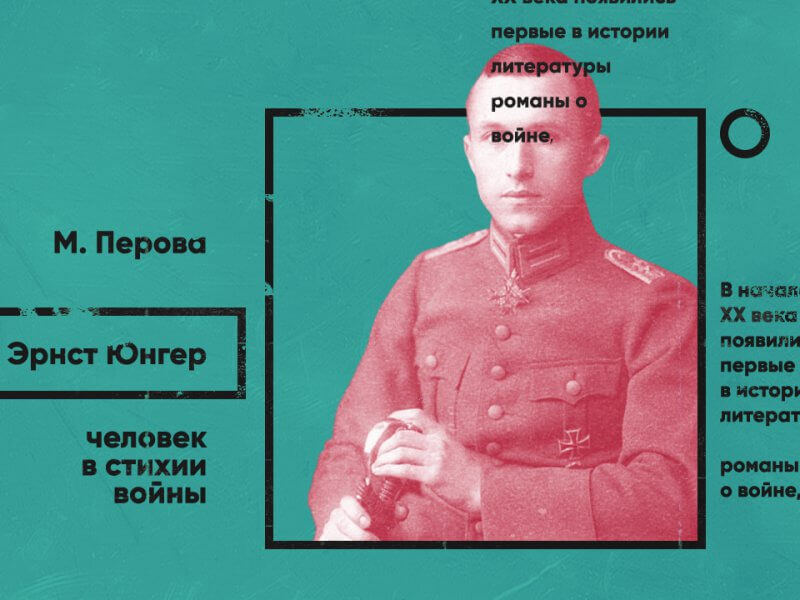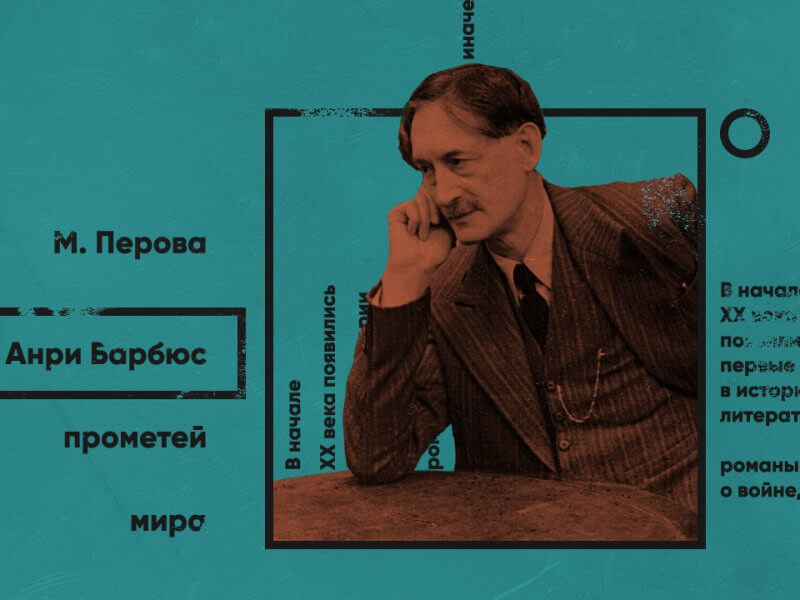Как и всё лучшее, книги Евгения Богата мне посоветовали. Несмотря на это, я не торопился с чтением. В книгах, которые мне попадались, просто не было ответов на мучившие меня вопросы. Особенных надежд на Богата я тоже не питал.
Тем не менее, долго ходить вокруг «Ахилла и Черепахи», лежавшей на столе, тоже не получилось. Обложка её выглядела настолько скучной, что это могло сработать. Я сварил себе кофе, выдвинул стул, включил настольную лампу.
Повествование начиналось с письма молодой учительницы Татьяны Ивановной Малявиной в редакцию «Литературной газеты».
«Уважаемые товарищи! Я первый раз пишу в газету. И пишу о себе, а это так трудно. Будьте добры, передайте моё письмо благородному и мужественному человеку. Мне так хотелось бы получить честный ответ от чистого сердца на вопрос: стоит ли жить после того, как твоё достоинство женщины и человека унизили и растоптали? В чем черпать силы, чтобы жить дальше, если самая большая ценность оказалась медяком, да ещё фальшивым?[…]
Мне двадцать шесть, я окончила химфак пединститута и сейчас работаю в школе в
городе Нижнеустинске. Я «химичка», как нас называют, но не могу жить без музыки, стихов, без Тургенева и Л. Толстого. Может быть, в этом моё несчастье, я ищу в жизни то, что ушло из неё…»
Я даже не заметил, как одним махом, не отрываясь, прочёл 79 страниц. А затем, в течение пары месяцев, ещё семь книг Евгения Михайловича: «Бессмертны ли злые волшебники», «Золотое весло», «Чувства и вещи», «Ничто человеческое…», «Семейная реликвия», «Что движет солнца и светила», «Бескорыстие».
Обычно я никогда не читаю книги одного автора кряду – тем более, сразу так много. У меня это просто не выходит. Даже несколько художественных книг разных авторов подряд читать утомительно: за романом у меня следует документалистика, за ней – научно-популярная литература, затем, возможно, снова что-нибудь из «художки». Но в этом случае изменить своим привычкам удалось как-то само собой.
Всё дело в том, что читать книги Богата — всё равно, что общаться со старым другом, радушно приглашающим к себе в гости: «книга ведь тоже дом», как говорит сам Евгений Михайлович в «Ничто человеческое…». «А поскольку книга — это дом, обладающий фантастической ёмкостью, — добавляет он, — то доставало в ней места для всех. Но самое интересное: и ходили в книгу-дом не только те, о ком писали, но и те, кто писал». Каждая книга Богата соткана из человеческих судеб: писем и воспоминаний, фрагментов интервью,
рассказов очевидцев и участников — вроде бы небольших, но во многом эпохальных событий. Благодаря исключительному литературному таланту публициста, все эти истории оживают и являют перед читателем реальных, действительно существующих людей — людей вполне обычных, да и живущих так же «вполне обычно», по-человечески: в служении близким и дальним людям, и с памятью о тех, кто служил.
Среди гостей его дома — Александр Семенович Жигалко, «страстный коллекционер, который всю жизнь собирал картины. На склоне лет, — за восемьдесят было ему! — став обладателем четырех тысяч полотен, он оторвал от себя это сокровище — подарил молодому городу — Чайковскому». Тут же находится и рабочий-лекальщик Сергей Степанович Павлов, который безвозмездно создал для советской сердечной хирургии новаторские инструменты, не имеющие аналогов во всём мире. «Покажите мне двух человек, которым помог мой инструмент» — таким только (только?!) было его пожелание к проделанной титанической работе. Здесь и Байдемир Япарович Япаров, советский солдат, который первым водрузил знамя Победы над Рейсхтагом — «знамя», которое он соорудил из ветки и куска матрацной ткани — и молчавший об этом подвиге 18 лет, пока вся страна чествовала «официальных» героев Егорова и Кантарию. А также многие другие люди, мужчины, женщины и дети, чьи поступки, возможно, выглядят несколько скромнее названных, но также являются подлинно человеческими.
Собственно, вместе с этими «компетентными» людьми, своими дорогими гостями, Евгений Михайлович размышляет: что значит быть Человеком? Как им стать? И зачем? Но подходит он к вопросу не как беллетрист, и не с пространными рассуждениями, а действительно серьёзно, черпая материал из непосредственной практики жизни, из историй собравшихся в его (в своём) доме героев, из их побед и поражений — борьбы. И в каждой из его книг, несмотря на схожесть поставленных вопросов, показывается та или иная грань ответа на него, рассказываются те или иные истории. Ответ получается сложный, «многогранный», поскольку он опирается на всё лучшее, что выработало человечество за свою историю, но потому он и правдивый, проверенный, мощный.
Однако, выразить его в формуле, подобной максиме Канта, нельзя — Богат прекрасно понимает всю «тонкость» дела, знает, что одна лишь попытка определить механизм чуда человеческого бытия может это самое чудо разрушить. Тут важно сохранить не только само восприятие чуда как чего-то необычного, нет — ведь Богат как раз и желает, чтобы чудо стало основой жизни, стало «обычным»!, — а чтобы сама радость этого дела, само высокое «таинство» процесса не опошлилось, не превратилось из «обычного» в вульгарное, утилитарное, враждебное своей сути. «Огромные духовные богатства человечества рождают и жажду общения с ними, и соблазн духовного потребительства. Золотое весло поможет углубить общение и избежать соблазна… Мне хотелось подарить читателю золотое весло — лёгкое, даже невесомое, как луч солнца, и сильное, как вёсла уёмистых, тяжелых, старинных лодок, на которых некогда переплывали моря…». Это «весло» — лучшее, что человечество знает о себе, усвоенное как чувство этого лучшего, в согласии с которым и живёт человек, уверенно движется по волнам своего бытия. Богат и его гости всюду говорят о доброте, любви, мужестве, бескорыстии, честности, об «узнавании» человека в «другом», ближнем или дальнем, об его «открытии» для себя, когда перестают уже существовать «я» или «ты», «ближние» и «дальние», «другие», — и образуется одно большое «Мы», общечеловеческое единство.
Но «если все же говорить о «тайнах ремесла», то основополагающая тайна — любовь к человеку. Не сатинская — горьковская. Не только к Человеку, но и к человеку. Ощущение в самом обыкновенном, будто бы ничем не замечательном, «многогрешном», как определил бы насмешливо-любовно Алексей Максимович, попутчике великой и радостной загадки бытия…». «В отношении к человеку, как к высшей цели, я вижу последнюю ступень узнавания: самую высокую, самую нужную. Ради нее стоит нё только идти — карабкаться вверх! Но лучше, точнее, пожалуй, определить это не как последнюю ступень узнавания, а
как естественный вывод из него. Чем лучше узнаешь человека, тем полнее понимаешь ясную мудрость Марксовой формулы-мечты о «развитии человеческой силы, как самоцели». Только развитие (эта формула-мечта, как музыка, её хочется повторять и повторять) человеческой силы, как самоцели, может обогатить мир величайшими, ни с чем не сравнимыми материальными, духовными, этическими ценностями. Антиутилитаризм именно потому, что человечен, и поразительно результативен».
Любви как чувству дела и как делу чувства Богат уделяет в своих книгах очень много места. «Что движет солнца и светила», тот же «Ахилл и черепаха», «Золотое весло» посвящены этой теме почти полностью. Точка зрения автора такова: советский век дал нам условия для небывалого раскрытия человечности, ведь здесь впервые была поставлена задача уничтожения главного препятствия этому: частной собственности, отчуждающей людей друг от друга. Любовь из чего-то неземного и невероятного стала земной и закономерной — но не в смысле, что стала проще и приземлённее, а в том, что условия для её существования стали сознательным общественным делом. В этот век любовь также впервые получила шанс быть не одной лишь половой любовью или «набором» разных любовей (к ребёнку, Родине и пр.), а явить себя как единство, как способ, цель и смысл осуществления подлинно человеческого. Сравнивая бытие любви при социализме с бесконечно тонкими описаниями её бытия у Стендаля («О любви»), Богат говорит, что, при всей гениальной тонкости, понимание любви Стендаля уже устарело. «Это оттого, что в нашем столетии родилась новая любовь: в неё вошло лучшее, что было увидено и описано Стендалем, — от восхищения и первой робкой надежды до потаенного и сложного процесса кристаллизации плюс огромная, разрывающая сердце человечность».
Эта человечность уже не умещается не только в отдельном человеческом сердце, но и в каком-то особенном отношении, посвящѐнному единственному и неповторимому избраннику, она постепенно становится способом бытия человека в человеческом мире, и составляет суть его отношения ко вселенной — «космической этике», как назвал это отношение Иван Филиппчук, один из героев книги «Бессмертны ли злые волшебники». «Может быть, никогда в истории человечества любовь не означала для людей так несказанно много, как сейчас: за утверждением и отрицанием ее скрываются не личные особенности, а две философии века», — соглашается с этим Евгений Богат уже в «Ахилле и черепахе».
Конечно же, две философии века имеются в виду вполне известные: коммунистическая и капиталистическая.
В этом плане, Богат намного «больше» философ, чем многие профессиональные философы, и «больше» писатель, чем самые искусные писатели. В своих книгах он словно даёт нам понимание материи человеческого чувствования и со-чувствования, бытия человеческого, в самом высоком, «категориальном» значении; вместе с тем, Богат не нуждается здесь ни в каком
изысканном «философском тончилове» — он понятен, поскольку обращается к чему-то более глубинному, тому, что понятно всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, или уровня их образования. Он говорит на самом универсальном в мире языке — языке человеческого сердца. А по-гегелевски сложным, тяжеловесным Богат становится, только когда пытаешься понять его «философски» – именно так, как он сам не хотел бы, чтоб его понимали.
Вообще, говоря о чувствах, Евгений Богат просто математически точен. Редкий писатель в принципе может говорить о чувствах так: подробно, строго, но при этом не упрощая, а возвышая, не вульгаризируя, а бесконечно очеловечивая, не сводя к добродетели или «практикам» (как это сегодня модно у разных «мыслителей»), а обозначивая как само правило бытия. Поэтому Богат также единственный пока известный мне автор, содержание произведений которого невозможно пересказать. Их надо прочесть, осмыслить, почувствовать и… совершить. Как замечал тот же Гегель, логика есть такая наука, которую невозможно объяснить ничем, кроме как самой логикой, поскольку «в её содержание входит не только указание научного метода, но и вообще само понятие науки, причем это понятие составляет ее конечный результат: она поэтому не может заранее сказать, что она такое, лишь все её изложение порождает это знание о ней самой как ее итог (Letztes) и завершение». В своих книгах Богат говорит о логике человеческой души, науке того, что значит быть человеком — по содержанию, и по форме, и по методу. Объяснить эту логику невозможно, не показав в собственной жизни, не «разворачивая» её перед другими людьми — с ними, в них и для них. Для всех.
* * *
Вроде бы всѐ понятно.
Но что же тогда ищет Татьяна Ивановна Малявина, фрагмент письма которой я приводил в начале этой статьи? Одна из главных, центральных тем для Евгения Богата — противоречие ума и сердца, вещей и людей, прогресса и регресса — впервые была поднята им в очерке «Ахилл и черепаха» и после повторена, развита чуть ли не в каждой его книжечке. Даже сам «Ахилл и черепаха» как произведение переходил из одного собрания его очерков в другие, переиздавался, по сути, на протяжении всей жизни Богата, что указывает на его особенное отношение именно к этой работе. И если бы не это обращение автора к указанному противоречию общественной жизни, его книги превратились бы в пустопорожнюю моралистическую болтовню в духе слюнявой ханжеской этики Андре Моруа.
У Евгения Богата черепаха олицетворяет собой развитие человеческих чувств, сердца, Ахилл — развитие человеческого ума, технологий. Подлинного ума без чувств не бывает; как не может быть тонко чувствующим глупый человек, или умным — человек бесчувственный. «…Равновесие между умом и сердцем — условие формирования гармонической личности. Почти двадцать лет назад, когда торжествовало излишнее поклонение разуму, я написал повесть «Ахилл и черепаха». Ахилл — это ум, черепаха — это сердце. В известном парадоксе Зенона Ахилл не в состоянии догнать черепаху. Но в действительности, тоже весьма парадоксальной, но все же более конкретной, чем отвлеченные формулы и парадоксы, Ахилл оставил за собой черепаху в некой безбрежной дали, и мне хотелось, чтобы он умерил бег, чтобы милая, добрая, старая черепаха всё же поспевала, поспешала за ним».
Проблема в том, что несмотря на немыслимые достижения НТР, которые, как кажется, далеко оторвались в своѐм «беге» от «устаревших» и древних, как мир, законов бытия человеческого сердца, без этих самых «законов», завоевания НТР обращаются во вред человеку, подчиняя его своей «технической» логике, как будто вынуждая его стесняться своего сердца, «сворачивать» назад свою человечность. Физики на каждом шагу побивают лириков, за этой «победой» как будто стоит сам общественный прогресс, но Богат прекрасно показывает во множестве своих очерков, чего стоит эта победа. Человек глупеет сердцем, перестаёт быть человеком. Один из очерков — «Урок», — который принято считать чем-то вроде итога творческой деятельности Богата как публициста, показывает закономерное развитие этой тенденции.
Ознакомившись с его содержанием сразу после «Ахилла и черепахи» (разница в написании — 20 лет), читатель не без ужаса обнаружит для себя, как эта тенденция, которую все считали нормальной, которой все гордились в 60-х, переродилась в острую общественную ненормальность менее чем за четверть века. Тех, кого развитие техники вдохновляло больше, чем развитие человеческого сердца, очень быстро из кого-то очень продвинутого превращались в самых настоящих нелюдей — и тем это страшнее, что даже поощрялось, считалось отрадным. Ахилл никогда не сможет догнать черепаху просто потому, что сама их погоня противоестественна: они должны бежать вместе, рядом, шаг в шаг. Тем более это выглядит неестественно, когда черепаха вынуждена догонять Ахилла. В любом таком случае, между ними образуется пропасть, величиной в вечность – пропасть, в которой запросто может сгинуть человек.
* * *
Евгений Богат умер в 1985 году. Но если бы он дожил до наших дней, он бы, мягко говоря, удивился – хотя прекрасно понимал, к чему в итоге может привести та тенденция, развитие которой он так ловко схватывал 30 лет назад. За 50-летний период изучения им этой проблемы, отношения Ахилла и черепахи успели поменяться кардинально.
Нынче уже никто никого не догоняет – всем плевать. Ахилл и черепаха теперь бегут в разные стороны и, будучи разлучѐнными, гибнут, как две части разделѐнного единства, хороня под собой весь человеческий мир. Нет больше поклонения разуму – разум перестал быть «разумен» с тех пор, как он перестал быть разумом человека и стал разумом «вещей»; нет больше и человека, «Чувства и вещи» Богата стали просто «Вещами». К своему изумлению, Евгений Михайлович увидел бы, как эти «вещи», лишѐнные человека, человеческой души, выступили в финальной схватке против человека и задавили своей «логикой вещей» логику человеческого сердца. Человек окончательно превратился в бездушный придаток машины, — пусть даже и машины высокоразвитой, «умной», красивой. А любви, о которой так бережно писал Богат, нет не только «в письмах выдающихся людей» — её нет вообще. Солнца и светила остановили свой ход, наступила тьма, всюду человеческое сердце поработили вещи, и вся человеческая душа умещается на экране смартфона, в одном простом хэштеге. И беда не в том, что это Богат всегда был излишне внимателен, придирчив, чувствителен (например, как в очерке «Баллада о часах») — а в том, что
сегодня то, что возмущало и пугало его, что он видел только в зародыше, вытеснило всё остальное, выросло до таких размеров, что заслонило собой человека. Предупреждение Богата сбылось, и никто — включая его самого, — не мог ничего поделать. Тенденция, отчуждающая людей, «сворачивающая» человеческое сердце, одержала верх, как только мы позволили тенденции, разрывающей человеческое сердце, дать слабинку.
Поэтому, пытаясь рассказать вам сейчас о Богате, я нахожусь в сумятице, поскольку, после всего прочитанного у него, вижу: произведения Богата, при всей своей практичности, выглядят как «письма с того света»: наш век бесконечно отстал от века Богата, от Ахилла и от черепахи. Мы ВСЕ отстали. Логическое время теперь вовсе не совпадает с историческим, мы живём в глупом, душном безвременье. Никаких условий не то что для «разрывающей сердце человечности», а даже для человечности самой элементарной, здесь уже нет. И прикосновение к текстам Богата, где эта человечность огранена в кристалл, «кристаллизована», возведена в число уже не добродетели (как мы можем воспринять это нынче), а высочайшей, но самой действенной, «нормальной» нормы жизни, производит впечатление прикосновения к самой человеческой душе, к чему-то бесконечно красивому, хрупкому, и, одновременно, непобедимому и мощному. Это приводит в оцепенение, вызывает слёзы и, порой, желание разрушать. Но не в стиле Юкио Мисимы: «Золотой Храм» — это совсем ещё не «золотое весло». «Золотое весло» не унижает человека, обладающего им, или просто смотрящего на него. Оно делает его сильным, пробуждает смелость бороться против несправедливости, зла, обмана, делает эту борьбу смыслом и воплощением самой человеческой жизни. Человеку, «вооружённому» им, хочется разрушить не красоту храма, а тот отвратительный мир, который, после краткого просвета, снова принуждает нас быть нелюдями, отворачиваться от любых красот.
* * *
Книги Богата сотканы из человеческих судеб. Но он не присвоил себе ни одной из них (как, например, Солженицын), а, наоборот, сделал их достоянием человечества. Он взял всё, что было лучшего в жизни его героев, и отдал это лучшее читателям, тем самым приумножив это лучшее и вознеся.
Представить себе писателя, подобного Богату, сегодня невозможно. Во всяком случае, уж точно трудно представить себе такого писателя, о котором можно было бы столько думать. Сейчас пишут так, чтобы человек вообще ни о чём не думал, рассчитывая, в лучшем случае, шокировать читателя, «эпатировать». «Автор» не просто умер, как говорил Ролан Барт, а валяется в причудливой позе где-то рядом с текстом, разлагаясь и отравляя своим смрадом всё вокруг. В лицо такого автора, как в личину трупа, не хочется вглядываться. Стиль же Богата, его слово были полностью отданы на служение обществу; это его герои, а не он сам, создавали его очерки, наполняли их своими удивительными жизнями, и жили в них, как в одном большом доме — поэтому им невозможно «налюбоваться», начитаться. Вот уж воистину: «покинувшие нас люди, отдавшие нам в наследство лучшие результаты своей деятельности делятся на тех, углубление в чью биографию приводит нас к разочарованиям, и тех, в чью жизнь можно сколько угодно углубляться без боязни разочарований», — так писал недавно Николай Загорский в очерках о белорусской революционерке Цётке. Богат же выступает здесь, в лучшем случае, как «исповедальник» — как он сам однажды писал об этой изменившейся, «новой уникальной роли писателя в социалистическом обществе.
У нас — исторически оправданно устранена из социальных и человеческих отношений фигура, игравшая ранее немалую роль в «епархии человеческой души», — я имею в виду фигуру духовника. Но с исчезновением этой фигуры не исчезла и, наверное, не исчезнет никогда потребность души в исповеди, в особом интимном общении человека с человеком, когда можно рассказать обо всем, смыть себя изнутри, «облегчить» душу, лучше понять себя. «Потребность человека в исповеди не исчезнет никогда», — писал Гёте.
Не исчезла она и в социалистическом обществе. И вот эта роль стихийно, как бы сама собой переходит у нас сейчас, по-моему, к писателю, по-новому формируя нетривиальные отношения с читателем».
Но в этом «стиле», как внимательный читатель обязательно заметит, заслуга даже не самого Богата. Судьбы, к которым обращается писатель, являются достоянием человечества и без писателя. Сам Богат случаен, как случайны и его герои… но и закономерен, как и они закономерны. Каждый из них сделал свой очень маленький, но вместе с тем гигантский вклад в сокровищницу мирового духа.
Таковым было то время – когда любовь к человеку впервые в человеческой истории на краткий миг обрела возможность вырваться из человеческого сердца и воссоединиться со своей подлинной сутью, не связанной никакими условностями — вернее, не воссоединиться, а пройти как бы «по касательной», максимально близко к действительной жизни. Будучи скованной столько веков подряд, человечность, едва только получила условия для своего прорыва, действительно хлынула на свободу – конечно, очень противоречиво, со множеством оговорок, отступлений, но по-другому и быть не могло, если мы говорим о действительно диалектическом процессе. И, тем не менее, даже за такое короткое время мы успели столько всего сделать, столько всего хорошего отдать. Сейчас же мы наблюдаем, как эта человечность, её сила снова отчуждается, сворачивается, прячется, «консервируется» в человеческом сердце до «лучших времён».
Наступят ли они? Доживѐт ли само человечество до них? Я полностью солидарен с Богатом в том вопросе, что без любви и доброты, которая сейчас так «активно» «сворачивается», чахнет в сердцах людей, человечество не доживѐт до этих самых лучших времён.
Мы говорили о любимых книгах, — вспоминает Е.М.Богат свою беседу со следователем МУРа Чвановым (очерк «Детектив без детектива»). — Он рассказал о том, что читал недавно новеллу одного француза. — Вот фамилии не помню. Вообще редко запоминаю имена писателей. А сюжет глубокий. О муравьях… Женщина идёт по Парижу и покупает у старика на улице муравьёв. Суетятся они между двух стекляшек, живые. И говорит старик, что нужна им капля меда в месяц: ничего больше. «Так мало?», — не верит женщина. Да, только капля. А через некоторое время женщина эта хочет показать кому-то забавных муравьев — мертвые они. Она забыла дать им каплю меда… Доброта, бескорыстие, любовь — это и есть та «капля мёда, без которой не только муравьи — люди умирают»…
* * *
Кажется, в том же очерке («Ничто человеческое…») Евгений Богат говорит о том, что только советский век дал возможность говорить и претворять в жизнь самую высокую нравственность абсолютно без идеи бога, безо всякого религиозного напыления. Мы доказали, что можем жить, как люди, не имея «царя в голове», не повинуясь каким-либо «господам»; что теперь мы сами знаем, в каком мире хотим жить и способны этот мир организовывать. У нас появилась новая мораль, которая сохраняла всё лучшее, что наработало человечество, но без идеи «вседержителя»; она из «божественной» стала «человеческой» моралью, «очеловечилась» в мирской практике – о чём любая религия может только мечтать.
Всё, что нужно было сделать для этой «космической этики» – это дать условия. Когда человечество начинает жить сознательно, тогда оно вдруг «воскрешает» к жизни всё лучшее, что успело создать, относится к своему опыту, как к святыне – но не в религиозном смысле, а в самом человеческом.
Говоря о «двух философиях века», из которых одна утверждает любовь, а другая — отрицает, Богат не преувеличивает, — да и не о философии ведёт он речь. Он говорит о самом принципе организации общественной жизни: ведь, согласитесь, это и вправду поразительно, что в нашей далеко не самой богатой стране, которую, к тому же, постоянно терзали то войнами, то угрозой войны, люди могли позволить себе такую роскошь, как любовь и нормальные человеческие отношения. Евгений Богат внимательно изучал западных публицистов и вообще их периодику, много цитирует их в том же «Ахилле и черепахе» — отмечая попутно, что как раз на Западе, при всём его видимом богатстве, люди не могут даже помыслить об этой «единственно настоящей роскоши» — роскоши человеческого общения. И точно так же, как Богат изучал этих публицистов, нам нужно сегодня изучать самого Богата, изучать вообще весь опыт, который выработало человечество в создании условий для своего гармоничного роста – если мы хотим, конечно, жить сознательно, как и положено людям. Да и вообще – жить.
Тут оказывается, что работы Евгения Богата написаны «на вырост»: в том смысле, что обращаться к ним сегодня — всё равно, что садиться в машину времени. Открывая «Семейную реликвию», мы из безвременья нашей жизни отправляемся одновременно и назад, в то, что было (в 70-е годы ХХ века), и вперёд, в будущее, в то, что должно быть; а перечитывая «Что движет солнца и светила», мы обнаруживаем примеры любви, которая длится дольше, чем жизнь самих влюбленных. Находясь в этой машине, мы ясно видим, что мы — незаконно рождённые дети истории, в точке нашего существования история делает громадную петлю; мы живём на свалке эпох, в отстойнике мирового развития. В каком-то смысле, нас вообще не должно было быть. Но мы есть. И теперь наша задача — сделать так, чтобы петля истории не превратилась в петлю на нашей виселице.
Текст: Александр Гавва