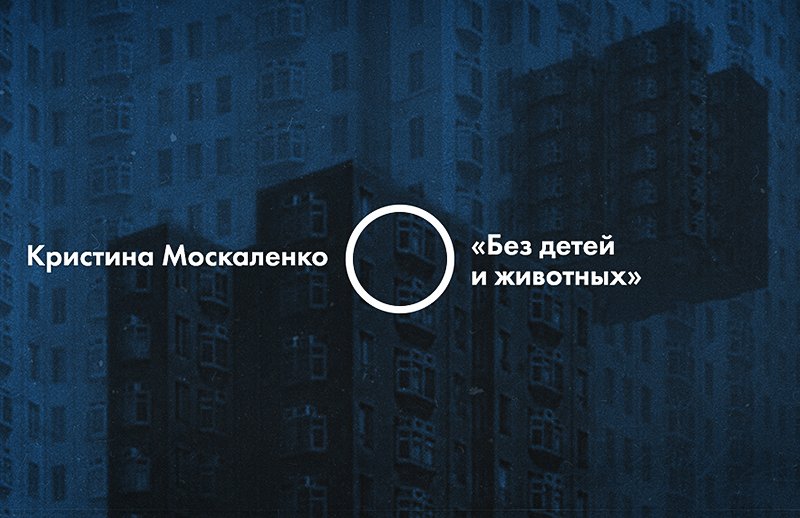В каком смысле сибирский панк может вообще заинтересовать эстетику как науку? По очень удачной, на мой взгляд, аналогии А.В. Босенко: искусство для эстетики это – примерно как муха дрозофила для биологии. Аналогия удачна потому, что предмет эстетики вообще несколько другой и намного шире – человеческая чувственность и чувственное освоение действительности (на этом в своей книге «Диалектика эстетического процесса», которую Э.В.Ильенков, назвал умной, серьёзной и интересной, настаивал А.С.Канарский). Само искусство при таком широком предмете здесь может рассматриваться как исторически преходящая форма становления и бытия человеческих чувств, которая когда-то появляется, развивается и исчезает, но не охватывает ни в историческом пространстве, ни в историческом времени (пространстве и времени деятельности человека) чувственности вообще.
Если дальше продолжать аналогию, то сибирский панк для эстетики — это даже не муха дрозофила, как биологический вид для биологии, а единичная особь, которая уж тем более не может быть интересна своей особенностью, хотя бы потому, что любая наука занимается общими закономерностями своего предмета, а не единичными явлениями. Единичные явления её интересуют только лишь в той мере, в которой в них и через них осуществляется эта закономерность. В этом смысле сибирский панк для эстетики интересен разве что как ещё один факт разложения искусства, именно разложения, но именно искусства, как формы бытия человеческой чувственности. В этом смысле он относится к искусству, но это не повод заниматься специально им.
Короче – это больная особь мухи дрозофилы с врождёнными болезнями, родившаяся на стыке советского, постсоветского и антисоветского. Но эта особь, в отличие от многих больных той же болезнью, знает, что она больна; знает, что болен весь её род; и знает, что среда в которой она живёт, отравлена и способствует её болезни и смерти. Знает она также, что жить — значит умирать, но умирать не значит жить. Она не мнит себя «венцом творения», а чётко и смело, хоть и совсем печально, констатирует факт:
Пластмассовый мир победил.
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл.
Последний фонарик устал
Это – приговор не только себе, но и своему тухлому времени. Сибирский панк в текстах Егора Летова чётко отдаёт себе отчёт в этом и выносит этот приговор. В отличие от многого того, что мнит себя чем-то большим, чем оно есть, он рефлексивен. Он ищет выход из сложившейся ситуации.
Путей тут три. Поскольку «в очереди за солнцем на холодном углу» стоять бессмысленно проще всего упиваться саморазрушением «ты сядешь на колёса, я сяду на иглу». Или ещё лучше, более радикально удариться в саморазрушительный солипсизм, ведь смерти всё равно не избежать, а умирание — это не жизнь: «Покончив с собой уничтожить весь мир», ни или «Винтовка это праздник…» ведь всё равно всё летит именно туда… Второй путь выхода — уйти «из зоопарка», спрятаться, окружив себя «такими, как я сумасшедшими и смешными, сумасшедшими и больными», запереться в своём мирке, окуклиться. Но это – по сути то же самое, что и первый вариант. Пусть медленнее, комфортнее, но от этого не менее бессмысленно, а потому не менее больно, если уж бессмысленность сама по себе — боль. Третий путь — бороться. Причём бороться не с симптомами своей болезни, а со всем «пластмассовым миром», который эти болезни порождает. Борьба – действительно альтернатива. И потому, потоптавшись на двух предыдущих дорожках, Летов всё-таки запел уже не своё, но о своём — «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди…». Но он так и не сумел, что называется, «выдержать напряжение принципа» и принять до конца этот бой, всё время сбиваясь на предыдущие дорожки. Но именно благодаря тому, что все эти дорожки были обнажённым нервом, сибирский панк действительно стал значимым явлением культуры, вне зависимости от того, нравится он кому бы то ни было или нет. Признать факт победы «пластмассового мира» — это не так уж и мало. О том же по другую сторону океана жалобно визжала гитара Курта Кобейна.
Признать факт победы пластмассового бесчеловечного мира – этого очень мало. Такое признание может быть только моментом. Побунтовавшему человеку дальше остаётся или смириться, избрав приемлемую для себя форму умирания, или бороться. Именно потому, Летовско-Кобейновский бунт – это не однозначная голо-противоречивая ступень развития. То, что этот бунт стал такой ступенью как минимум для тысяч – факт, который нельзя игнорировать. Сибирский панк одна из общественно-значимых в определённых исторических условиях форм такого бунта, но бунта по существу. А, как известно, бунт играет важную роль не только в истории, но и в становлении отдельной личности. Тот, кто не был бунтарём, не станет революционером. Хотя не факт, что тот, кто был бунтарём, станет революционером. Можно же просто забыть о «пластмассовости мира», приспособиться и болтаться. На этой стадии можно застрять или двигаться как назад — «всё как у людей», так и вперёд — к революционности. А можно и того хуже бунт возвести в культ, при чём в культ самодовольной силы, в культ разрушения, что, кстати, уже было. Именно о таком возведении бунта в культ разрушения и силы М.Лифшиц писал в статье «Почему я не модернист».
Как это всё относится к предмету эстетики, обозначенному выше, и в какой плоскости это может заинтересовать современную эстетику как науку? На мой взгляд, это может быть достойным упоминания как пример, через запятую, вкупе с другими явлениями того же порядка, не более того. Причём, это нисколько не умоляет и не преувеличивает значимости панка. Ведь не является же он «недосягаемым идеалом» или узловой точкой на восходящей линии развития человеческой чувственности, а только болезненной, то есть само-чувствующей, констатацией констатации факта разложения искусства как формы развития чувств. Это интересно и даже очень, но не для эстетики. Это интересно, например, для художественной литературы, как человекознания (Горький). В литературе как тема, это может быть очень продуктивно, образно, концентрированно-информативно, концептуально и познавательно. Это интересно для искусствоведения, для культурологии, для журналистики, для социальной психологии, много для чего.
Но эстетика-то вообще о другом. На мой взгляд, сейчас она должна искать ответы на следящие жизненно-важные вопросы, а не заниматься очередной «отдельной» «мухой дрозофилой» :
- Почему бессмертные по своей природе чувства умирают, и заменяются ощущаловкой? То, что это происходит, настолько эмпирически очевидно, что много раз было констатировано как факт с разных сторон представителями самых разных наук, в том числе и эстетики. На это стали обращать внимание ещё в первой половине ХХ века, причём факт этот констатировался не только и не столько на уровне процессов происходящих в искусстве, сколько в самом широком понимании чувств, которое в своё время разрабатывал А.С.Канарский.
- Но почему они вообще могут быть приравнены к ощущаловке и заменены ею, как происходит это приравнивание? Раскрытие логики этого процесса, разрешение этого противоречия между бытием и наличным бытием, хотя бы в теории, очевидно, позволит сознательно подходить к процессу формирования чувств так, чтобы они были достоянием не просто многих, не большинства, а каждого как представителя общества в своей целостности.
- Этот вопрос можно сформулировать следующим образом: как в массовом сознательном производстве человека можно будет перейти от производства ощущений (которые тоже являются культурным историческим феноменом) к планомерному производству чувств? Чтобы чувства в наивысшей точке их развития, достигнутого человечеством, сделать личным достоянием каждого представителя общества, точно так же, как это делается сейчас, на базе современных социальных технологий в производстве тотальной ощущаловки.
Текст: Марина Бурик