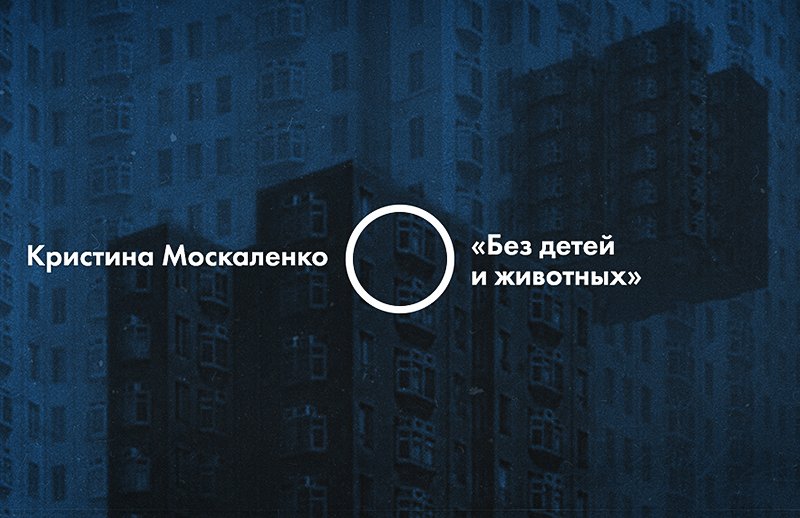Сегодня принято называть всякий пустяк “работой” — что ж, в таком случае я могу сказать, что работаю над своей раздражительностью.
Всё началось довольно давно, ещё с последних курсов университета. Жизнь чаще и чаще показывала свой звериный оскал, отворачиваться от которого больше не удавалось. Это вызывало праведный гнев, хотя тогда я ещё не знал, в чём причина. Поскольку моя заметка полулитературная, могу сказать, что главную роль тогда сыграла Сильвия Плат: начитавшись её, я подумал, что не в порядке я сам, и потому принялся назначать себе таблетки. Иногда они помогали, но обычно к вечеру мне становилось так грустно, что приходилось принимать ещё и алкоголь. С таблетками он сочетался не очень, а особенно тяжко бывало по утрам. Даже не представляю, что чувствуют наутро наркоманы, которые пользуются по-настоящему мощными препаратами.
Всё равно, употреблял я что-то или нет, раздражительность не уходила. Я пробовал зайти с другой стороны: читал мотивирующую литературу, медитировал, настраивал себя на положительный лад. Но это была полная ерунда. К тому времени я уже был слишком хитёр для всего этого — как, впрочем, и для таблеток. Всё вокруг выглядело одной сплошной бессмыслицей и на плаву я удерживался лишь каким-то чудом. В семье и на работе, конечно, не ладилось, я то уходил, то возвращался. Казалось, всякий человек, посторонний или знакомый, стремился причинить мне зло. Укрыться от всеобщего безумия было негде уже хотя бы потому, что я сам был его очагом. Всё, что мне удавалось, — это только огрызаться или, когда и это не выходило, причинять себе вред.
Мои товарищи — из тех, кто почему-то оказались такими же раздражительными, как я — тоже выживали как могли. Сейчас они уже, по-моему, ничего не хотят. Их ничего не устраивает, но и сделать что-то они оказываются не в состоянии. Мне кажется, меня в то время спасла мечта: я слишком сильно хотел стать писателем, чтобы позволять себе окончательно зарыться в собственное Я, которое и так уже было исследовано мной до грани. Тогда я вернулся в философский кружок, который не посещал пять лет — просто в какой-то момент понял, что одному мне не справиться.
Даже не знаю, почему я решил так сделать. Наверное, потому, что это имело хоть какой-то смысл — хотя и явно бессмысленный. По сути, прежде чем вернуться “к истокам”, я проделал огромную петлю, о чём одновременно и жалею и нет. Жалею — потому что потерял много времени, не жалею — потому что и этот опыт оказался полезен. Когда занят чем-то общим, — хотя бы и очень маленьким, но уж точно большим, чем ты сам, — то раздражительность уходит. Для нас таким делом стало изучение диалектики, освоение этого великолепного достижения человеческой мысли.
Я думаю, что человека тогда всё бесит, когда он схлопывается, как устрица — оказывается зажат в своей личной тюрьме, какого бы она ни была происхождения. Тюрьма, в которую попал я, образовалась в попытке укрыться от невзгод жизни. Но теперь я знаю, что укрыться от них нельзя, их можно только встретить, мужественно или нет. Мужество требовало для меня отказа от кое-чего, казалось, неотрывного — например, от убеждения в том, что ты большая ценность. Философия и сыграла здесь решающую роль: когда я взялся за воскрешение в себе “старых” истин, которые мои некогда боевые товарищи успешно выменяли на зарплату и новые кроссовки, то с удивлением обнаружил, что эти истины уже звучат совсем по-другому, звонче и ярче. Теперь я не пытался примерить их к жизни — я пришёл к ним из жизни, я открыл их, развернувшись в том тупике, в котором оказался. То, о чём писали Фейербах, Маркс, Чернышевский, о чём спорил Сократ и говорила Украинка, стало глотком свежего воздуха. А ведь все эти люди не жалели себя, не потакали своим прихотям, не носились с собой как с писаной торбой — потому и считаем мы их настоящими людьми. Диалектика вдруг начала открываться мне “не по Гегелю” — вернее, уже не только по Гегелю. Обидно, что мои товарищи, похоже, никогда теперь не будут пить из этого источника.
Странно говорить о взрослении, когда тебе уже под тридцать — но, по-моему, именно в этом возрасте я только и повзрослел. На смену негодованию и удивлению начало приходить понимание — всё будто по Спинозе. Когда появилась цель, вредить себе стало незачем. Действительно, если дело общее, то кто я, если позволяю себе идти на дно в то время, как от меня зависят другие люди — как недавно выяснилось, также и люди дальние, из других стран? Как-то само собой я начал ходить в спортзал, о чём прежде не мог и мечтать, стал лучше питаться, больше читать и писать, почти не употребляю алкоголь; усилие над собой стало приносить удовольствие, — поднимая гантели, я поднимаю свой дух. Брать ответственность за себя и других, допустить ошибку перестало быть для меня чем-то страшным. Это всё ложь, что разум и чувства противоречат друг другу: ни во что человек не вкладывает больше сердца, чем в понимание, чем хотя бы в искреннюю попытку понять. Я начал успокаиваться.
Но есть одна вещь, которая по-прежнему вызывает во мне раздражение, и это раздражение растёт изо дня в день. Я долго не знал, как написать о ней, и до сих пор не знаю, стоило ли это делать — ведь никакого конкретного решения предложить читателю не удастся. И даже название для этой вещи я ещё не придумал. Впрочем, философия уже давно говорит о ней, и даже названия подобрала неплохие: одномерность, атомарность, фрагментарность.
Не устраивают они меня лишь потому, что я не уверен, что это именно фрагментарность. В самом деле, может ли фрагментарный индивид, коими мы все являемся, почувствовать свою фрагментарность? Ведь чувство — это целостность, а она ему едва ли доступна…
И всё-таки — ВСЁ-ТАКИ! — мне кажется, что вполне может: хотя бы в виде “фантомных болей” от “усечённой человечности”. Известно, что не может быть неразумных чувств и бесчувственного разума. Коль скоро нам известно о фрагментарности из теории, из построений отвлечённого ума, то это должно как-то переводиться и в непосредственный вид, находить себя во всякой практике, — в том числе, и в практике чувств, и в этих чувствах познаваться.
Кажется, что мне эти “фантомные боли” являются ярче всего в виде той непоследовательности, которую я остро и болезненно переживаю. Я уже много лет веду дневник и не так давно перечитал записи за последний год. Это чтение произвело на меня неизгладимое впечатление. Хотя и раньше я замечал за собой, — да и другие это за мной замечали, — что я часто не сдерживаю обещаний, забываю сказанное или “теряю из виду”, — то дневник это показывает с неумолимой откровенностью. Я могу вечером сделать вдохновенную запись о том, что теперь “начинаю новую жизнь”, а завтра даже не вспомнить об этом — и так бесконечное множество раз, пока снова не вернусь утверждать эти же вещи словно впервые! Или могу ввести для себя новое правило, принцип, которое вымучил и выстрадал — и через минуту же наступить на прежние грабли.
Какая-то ужасающая слепота, малодушие, несознательность — думал я сперва. Бросался составлять целые меморандумы, что-то вроде личного кодекса чести… и всё зря: мне по-прежнему чего-то не хватало, я просто не мог выполнять свои же “декреты”, хотя каждый из них было моим “естественным” следствием. Да и это я делал уже сотни раз, — такое бессилие, конечно, неимоверно бесит.
Почему я считаю, что оно — явление фрагментарности, а не просто каких-то моих личных недостатков? Подобные проблемы знакомы не только мне, а и другим моим сверстникам, — и, как ни старайся, никто из нас не может удерживать в голове примитивные, казалось бы, вещи. И речь не только о данных себе обещаниях, а об умении смотреть на что угодно хотя бы с нескольких сторон — не говоря уж об умении выносить суждение. Всегда словно не хватает какой-то части сознания, которая может противопоставить себя другой своей части, не разорвав целого: это целое номинально вроде и есть, а на деле — фрагмент. Мы все словно недоделанные люди со “слепыми пятнами” в глазах. Забавно тут то, что та самая другая сторона, когда речь идёт о противопоставлении — это мнение некоего “другого человека”, которое очень часто никак не получается “увидеть”. А ведь именно это “другое”, увиденное во всём богатстве своих проявлений, и есть целостность.
Можно возразить: не хватает силы воли, потому и не держишь обещаний. А я и не спорю: педагогика в своих лучших образцах как раз утверждает, что воля не есть индивидуальное свойство отдельной личности, но формируется в коллективе, в целостности. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать статьи о воспитании трудом того же Сухомлинского, Макаренко, В.Босенко. Коллективы, в которых воспитывались мы, обычно были разъединяющими, а в лучших случаях там всё равно не работали “по классикам”. Ответственность нам прививали тоже другую — обычно “за себя”, очень редко “перед другими”, и почти никогда — “за всех”. Да ведь и личные недостатки тоже не с неба падают — им неоткуда взяться, кроме как из общества. А это значит, что оно их и производит, используя для этого специально созданные инструменты: семью или школу, частную собственность или разделение труда, гражданское общество или государство…
Можно возразить также: виноваты соцсети, реклама и вообще засилье разрозненных факторов, на которые человек должен непременно реагировать, стремительно смещать внимание с предмета на предмет, не задерживаясь толком ни на каком из них — отсюда и рассеянность. А я и не спорю: фрагментарность как раз и “расцветает” пуще всего именно в этих условиях, потому что они её и производят — но сами соцсети и другие способы “отвлечения внимания” есть только следствие тех процессов, которые происходят в обществе: современное товарное производство рвёт человека на части, заставляя его, находясь в своём профессиональном углу, “всё успевать”. Никакая дисциплина или “цифровая гигиена“ не решат этого вопроса до конца: ведь призывы “не смотреть, если не нравится” означают лишь то, что нужно всё-таки видеть, чтобы понимать, когда и куда отворачиваться. Но тут и никакой особенной дисциплины не надо: отворачиваться от всего плохого и неугодного — естественная норма поведения для нашей эпохи. Та же фрагментарность, только с широко закрытыми глазами, усиленная и возведённая в моральную степень по причине своей имманентной слепоты.
Или другой пример, попроще: бывает, одного лишь взгляда на какого-то человека достаточно, чтобы почувствовать себя никчёмным. Отчего так? Допустим, кто-то лучше тебя одет или он сильнее, или больше умеет и знает. Должно ли это так огорчать? Нет, но почему-то огорчает — и не из зависти, а, скорее, потому лишь, что не можешь, в голову не приходит заметить, что этот же человек и сам не совершенен, каким бы “идеальным” он сперва не казался: такой же “фрагментарий”, как и ты, а ты почему-то принял фрагмент за целое. Отметишь это, воспрянешь — а через пять минут забудешь.
Или вот ещё: “наедешь” на какого-нибудь человека, что он “такой-сякой”, распечёшь его за промашки и ошибки, потом глядишь — а сам-то ты в точности, как он, а то и хуже. И точно так же, как он, не смог “на себя оборотиться”, увидеть себя со стороны, то есть, целостно.
Примеров можно ещё много приводить — я лишь выбрал самые наивные и “безобидные”.
Почему это всё бесит? Да хотя бы потому, что не даёт взлететь, мешает осуществить задуманное, унижает — ведь это какая-то ущербность, родовая травма. Как же взлетишь, если уровень мышления философов XIX века оказывается неодолимой высотой — а ведь с их поры прошло уже 200 лет! По большому счёту же потому, что так жить нельзя, потому что это — не жизнь, а только фрагмент жизни. Эвальд Ильенков назвал бы такой фрагмент “неуклюжим эрзацем”. Так не должно быть! А что делать — чёрт его знает… Кажется, ничего другого и не придумаешь, кроме как “идти на грозу”. Но как на неё идти, да ещё так, чтобы с толком, чтобы не пропасть зазря, не отлететь в чёрное небытие, как одинокий луч?
Я намеренно озаглавил эту заметку “Раздражение” — внимательный читатель увидит здесь отсылку к “Тошноте”. И период тошноты я прошёл. Постойте, — заметит он же, — но ведь вообще-то раздражение должно предшествовать тошноте, а не следовать за ней! Я полностью согласен. Однако и Сартр имел в виду отнюдь не физиологический акт. Его “тошнота” — это поднимающееся из глубин души отвращение к мелкой, душной жизни, которую наша эпоха уготовила едва ли не каждому человеку — хоть обывателю, хоть гению. Меня больше не тошнит: я не могу так глупо расходовать силы. То, что мутило меня, не давало вздохнуть, изнуряло и бесило, теперь выпало в ил, осело, застыло, всё так же дразня воспалённое нутро, но уже не просясь наружу. Да, тошноту можно вызвать искусственно — но зачем? Если в этом нет надобности, то оно будет сродни тому перформансу, который впоследствии даже стал “методом искусства”: когда художник изрыгает на холст только что выпитую краску, уверяя зрителей, что полученная клякса — картина. Я не отрицаю — такое отражение получится довольно честным, потому что искусство никогда не врёт. И в нём отразится только наше собственное убожество, ставшее безразмерным от попытки “восхититься” им, быть “толерантным” к нему, принять за что-то самодостаточное или, не дай бог, “цельное”.
Понимание, что у тебя есть границы, не тобою поставленные и тобою лично не одолимые — раздражает. Но раздражает — это ещё слабо сказано. У Чехова в рассказе “Спать хочется” девочка задушила грудничка: её настолько замучили условия её жизни, жестокая эсплуатация хозяйки, что измождённому детскому разуму показалось, будто этот грудничок и есть причиной всех её бед. Как бы нам самим не передушить друг друга, допустив роковую ошибку и обвинив в собственных проблемах не то правительство, не то соседний народ, не то мельчайшие генетические различия между людьми (как это уже когда-то было), но не разглядев главного врага воистину исполинских размеров — врага в виде устаревших общественных отношений, которые, брошенные нами на произвол судьбы, разлагают на фрагменты нас самих. Ведь для того, чтобы мы все снова начали шевелиться, с умом (а это значит — сообща) выступили против изнуряющих своей ограниченностью условий, всё снова должно дойти до полного безумия — в котором, если мы не сможем воссоздать ту нашу общую “голову”, которая нам принадлежит по праву, но которая вдруг оторвалась от тела, у нас просто не останется шансов на то, чтобы выжить.
Текст: С.П.С.