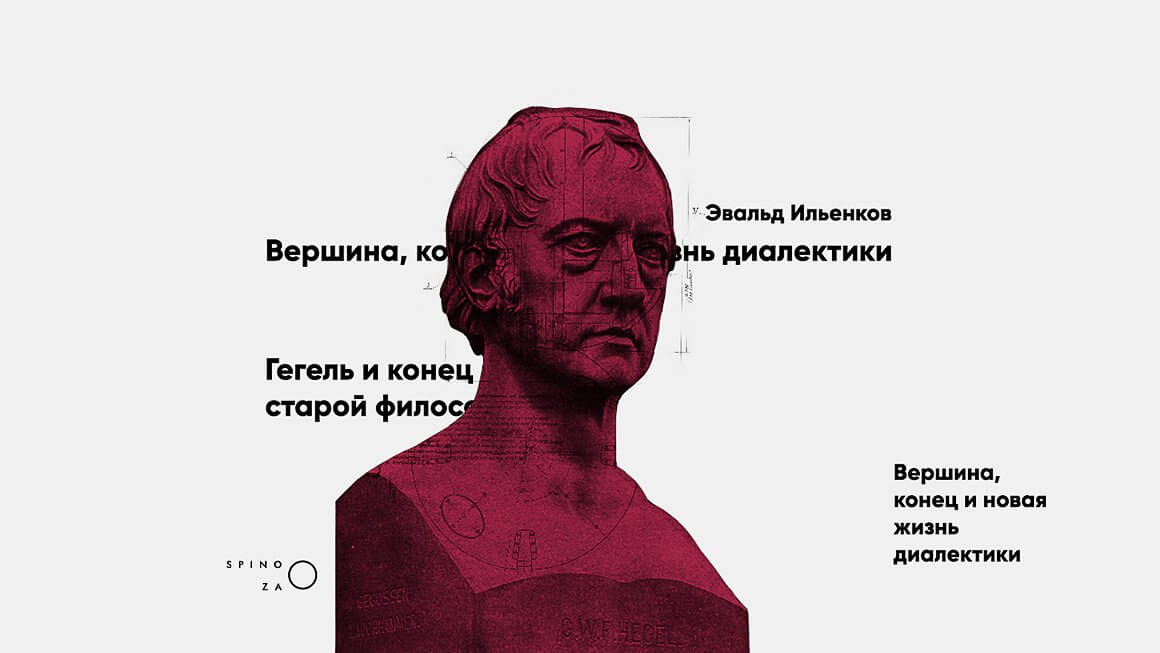(Гегель и конец старой философии)
«Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения». Этим дерзким парадоксом возвестила о своем рождении философская система, которой было суждено стать высшей – и одновременно последней в истории нашей науки – попыткой объединить в едином энциклопедическом синтезе все достижения диалектической мысли человечества, попыткой критически обобщить задним числом главные уроки ее более чем двухтысячелетней истории – истории самопознания диалектики. Приведенный выше «парадокс» представлял собой первый – и по порядку, и по значению – тезис, выдвинутый молодым соискателем, защищавшим 27 августа 1801 года диссертацию «Об орбитах планет». Имя соискателя было Георг Фридрих Вильгельм Гегель, будущий автор последней системы «мировой философии».
Но парадоксом, т.е. противоречащей себе самой нелепицей, этот тезис прозвучал лишь для тех, кто не был хорошенько знаком с историей. Гегель сознательно начал с того самого тезиса, которым, как мы видели, завершила – как итоговым выводом – свои циклы античная (древнегреческая) диалектика.
Это был знакомый нам тезис скептицизма, но с обратным знаком, с прямо противоположным акцентом. Если и есть что-нибудь абсолютно несомненное, выявленное философией в мире и в мышлении (а точнее, в мире, каким его мыслят люди, в мыслимом мире), так это противоречие.
Как бы ни обстояло дело с самим «внешним миром» – с миром «самим по себе», ясно одно – в мышлении этот мир с абсолютной неизбежностью предстает как система противоречий, как бесконечная серия «антиномий». Что-что, а уж это несомненно даже для последовательнейшего скептика – та истина, которую вынужден утверждать даже во всем остальном сомневающийся скепсис, и древний и современный. Вывод, к которому неумолимой логикой был приведен и величайший скептик Нового времени – творец «критической философии» Иммануил Кант. Тот самый Кант, о котором сказано было, что его критическая философия лишена идей и представляет собой несовершенную форму скептицизма, т.е. скептицизма, в нерешительности останавливающегося на полдороге и не решающегося на последний шаг, на последний неизбежный вывод. Скептицизм же, идущий до конца, исчерпывает себя и превращается в весьма категорическое утверждение, что миром, жизнью людей и их мышлением властно правит противоречие, как абсолютная форма, в которую разрешаются все разногласия, сомнения и позиции.
Отсюда возникает неумолимая альтернатива: если противоречие – показатель (критерий) ложности всех наших представлений, понятий и систем понятий, то реальный мир, в котором протекает жизнь людей, абсолютно непостижим, непознаваем; если мир и жизнь постижимы и познаваемы, если мышления (познание) способно выразить их такими, каковы они суть сами по себе, то противоречие есть самая общая и фундаментальная их характеристика, а его наличие в знании есть признак истинности этого знания.
Посмотрите вокруг себя открытыми глазами – и вы увидите, что нет ничего ни на земле, ни на небе, что не заключало бы в себе, внутри себя, противоречия, т.е. непосредственного единства противоположностей, их «совпадения» в одном и том же, и именно в точке их перехода друг в друга, их взаимного «перелива», превращения.
В самой своей непосредственно-наглядной, зримой форме это противоречие дано нам как факт движения тела в пространстве, как изменение положения в пространстве вообще, – это прекрасно понимали и Зенон Элейский, и Иммануил Кант, честно проанализировавшие понятие движения, изменения вообще.
Кант: всякое изменение «предполагает один и тот же субъект как существующий с двумя противоположными определениями…» 1. Ибо «возникновение и исчезновение не суть изменения того, что возникает или исчезает. Изменение есть способ существования, следующий за каким-либо другим способом существования того же самого предмета. Поэтому то, что изменяется, пребывает, и только его состояния сменяются». Отсюда – «положение, кажущееся несколько парадоксальным: только устойчивое изменяется; изменчивое подвергается не изменению, а только смене, состоящей в том, что некоторые определения исчезают, а другие возникают» 2.
Потому-то «изменение есть соединение противоречаще-противоположных определений в существовании одной и той же вещи» 3, а проанализированное еще Зеноном движение тела в пространстве есть лишь частный, зримо-наглядный случай («пример») изменения вообще.
Стало быть, если в теоретическом выражении движения (и изменения вообще) мы обнаруживаем противоречие, т.е. вынуждены «приписывать» два противоположных «предиката» одному и тому же «субъекту», то мы не должны приходить от этого в отчаяние. Зенон и Кант бесспорно доказали, что «противоречие» – это естественная форма выражения движения в теоретическом мышлении, т.е. в связи четко очерченных определений («предикатов»), и горевать по этому поводу так же неразумно, как и по поводу того, что дважды два – четыре, а не пять, что день сменяется ночью, а не длится вечно…
Как ни понимать «действительность», находящуюся вне нашего сознания и воли и вполне независимую от их капризов, ясно и бесспорно одно: в «логике понятий», т.е. в связи четко очерченных определений, эта действительность необходимо и неизбежно выразится как связь (соединение) двух противоположно-противоречащих определений одной и той же «вещи», одного и того же «субъекта», одной и той же «субстанции».
Столь же нелепо делать отсюда вывод, будто «на самом деле» вне нашего сознания вне сформулированного нами теоретического определения нет никакого движения, никакого изменения, будто наблюдаемое нами богатство окружающего нас мира – это всего-навсего сон, плод нашей воспаленной фантазии, нашего воображения, иллюзия, возникающая в нашем сознании, как то утверждает «дурной» идеализм – идеализм Юма и Беркли.
Вещи вне нашего сознания существуют, и не только существуют, но и изменяются, движутся, превращаются одна в другую – зерно становится мукой, мука – тестом, а тесто – хлебом; ребенок становится взрослым, взрослый – стариком, а старик – покойником «на самом деле» – а не в сознании людей. Текут реки, растут деревья, строятся и разрушаются города и государства, вращаются вокруг Солнца планеты, и «дурной идеализм», который сомневается во всем этом, отрицая внешнюю реальность «вещей» и изменений, в них происходящих, по реальному содержанию своему ровно ничем не отличается от наивного «материализма», непосредственно принимающего все то, что людям кажется (все то, что они видят и слышат, осязают и обоняют) за «истину» внешнего мира, за точное изображение того, что есть «на самом деле». И там и тут – бессмысленный эмпиризм.
Ни там, ни тут нет мышления, т.е. способности отличать то, что нам только кажется, от того, что есть «на самом деле», и потому ни философия, ни наука на точке зрения эмпиризма (будь то материалистический, будь то идеалистический эмпиризм) стоять не могут. Точнее, стоять-то могут, а вот двигаться вперед – нет, ибо научное мышление как раз и заключается в разоблачении иллюзий бессмысленного эмпирического опыта, в показе того, что на самом деле «действительность» не такова, какой она нам кажется, и то и дело оказывается как раз обратной по сравнению с «кажимостью», с «видимостью», с непосредственным ее «явлением».
«Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей…»
Мыслящий человек не может быть и не является «чистым эмпириком», – чистым эмпириком может быть лишь немыслящее животное. Да и оно не столь глупо, доказывая свой ум (его наличие) тем, что ищет, находит и поедает действительные (а не воображаемые им только) внешние вещи, составляющие действительные предметы (объекты) его потребности…
«Объективную реальность» внешнего мира – мира вещей и изменений, в них происходящих, – диалектика Гегеля не только не отвергает, не подвергая никакому сомнению, но и прямо ее утверждает, постулирует и даже доказывает.
И это вовсе еще не спасает ее от идеализма, а стало быть, и от тех роковых искажений, которые вносит в диалектику идеализм, т.е. позиция, приписывающая природе черты человеческого облика, те самые черты, которыми природа сама по себе – без человека и до человека – не обладала, не обладает и обладать не может. Идеализм гегелевского типа по сути своей та же самая антропоморфизация внешнего мира, что и религиозная мифология, разоблаченная критикой материалистов-досократиков, но только более тонкая, завуалированная, и потому не столь очевидная, но оттого не менее, а более коварная по своим последствиям для людей.
Всмотримся в гегелевскую – идеалистическую – диалектику несколько внимательнее.
Она исходит из того, что вне человеческого сознания и совершенно независимо от него существует «внешний мир» – мир «вещей» и происходящих в них самих «изменений» (движения в пространстве и во времени, в частности). Признает она и то, что телесно человек принадлежит тому же самому «внешнему миру», что и вещи вне его, за пределами его кожи, его черепа. Аксиомой для гегелевской диалектики является, далее, и понимание того факта, что человек более или менее верно осознает формы и расположения вещей вне своего собственного тела и потому умеет поступать в согласии с формами и расположением этих вещей, а не сообразно своим ложным о том фантазиям, иллюзиям. Поэтому сознание, очарованное своими фантазиями, он ставит не очень-то высоко. Говоря о «плохих принципах» (об аксиомах и постулатах некоторой науки), он выражается вполне определенно:
«Они представляют собой осознание вещи, а вещь часто лучше, чем осознание»4.
Короче говоря, все без исключения тезисы наивного, еще не добравшегося до диалектики, материализма (как стихийно принимаемой каждым трезво мыслящим человеком позиции) он не только принимает, но и включает их в себя, в свою систему понимания, и внутри этой системы показывает их ограниченность, их беспомощность перед лицом диалектических трудностей, диалектических «фокусов» познания…
«Фокусов», общая природа коих состоит в том, что ход познания постоянно и систематически показывает, что вещи «на самом деле» не таковы, какими мы их непосредственно осознаем в актах чувственного восприятия, – что они то и дело превращаются на наших глазах в нечто не только «другое», но и прямо противоположное…
«Лишь поняв предмет (а это приходит после обучения), можно встать над ним»5, в то время как немудрящее чувственно воспринимающее сознание то и дело обнаруживает, что предмет совсем не таков, каким он ему представлялся, являлся, казался. Предмет изменился – и сознание вынуждено измениться, вынуждено стать другим, противоположным тому, каким оно было до этого, вынуждено в самом себе обнаружить противоположность своих собственных состояний – представлений об одном и том же предмете, прежнего и актуального.
Да, но как можно поставить рядом и сравнить (обнаружив их противоположность) актуальное представление – прежним? Лишь в том случае, если прежнее представление как-то сохранено в сознании, в памяти, как-то в них зафиксировано.
А это происходит, по Гегелю, в слове, посредством слова, посредством словесно зафиксированного «определения». Только в виде словесно зафиксированного образа и сохраняется в памяти прежнее непосредственно-чувственное представление о вещи, – или вещь, какой она дана созерцанию.
Потому что диалектика, соединение двух противоположно-противоречащих определений в представлении об одной и той же вещи, для сознания налична (становится наличной, становится фактом) только благодаря слову, благодаря имени. «Вещь» сталкивается в противоречии с самой собой только в ее словесном бытии, в сказывании, в терминологически зафиксированном существовании…
В чувственно воспринимаемой своем существовании «вещь» такого столкновения с собой не испытывает; противоположности здесь не сосуществуют, а вытесняют одна другую, одновременно они тут наблюдаться не могут – обнаруживается то одна, то другая. То ночь, то день. То дерево, то дом, то свинья, то колбаса. То живой человек, то покойник.
Но это – для сознания, не замечающего как раз акта перехода, акта превращения одного в другое, в противоположное. А – в Б (т.е. в Не-А). Было А, стало Б (Не-А), где же тут «противоречие»?
Ночь не есть день, есть не-день. Живой человек – не покойник. Но ведь кроме «дня» и «ночи» имеются еще и вечер, и утро, предрассветные и вечерние сумерки – тот момент, та точка, где четко фиксируемые противоположности непосредственно «переливаются» одна в другую, переходят друг в друга, исчезают одна в другой, «совпадая» друг с другом… Момент, где не-живое превращается в живое и, наоборот, живое умирает, становится мертвым. Момент, где нечто исчезает, но одновременно нечто (ему противоположное) возникает, и это возникновение и исчезновение есть один и тот же процесс, а не два «разных».
Это тот самый момент времени, в который два четко зафиксированных (и противопоставленных друг другу) образа совмещаются в одной и той же точке пространства – в один образ, в один «предмет сознания». Тот самый момент, в который отказывает психика выдрессированного животного (вспомним эксперимент И.И. Павлова), и в этом отношении вполне тождественная ей психика человека, привыкшего к абсолютно однозначным реакциям на «один и тот же» предмет или – что в данном аспекте совершенно безразлично – на один и тот же знак, символ, слово, термин, определение.
Эмпирическое – недиалектическое – познание дает как свой итоговый вывод два «непротиворечивых» внутри себя «описания» – исходного состояния и финального состояния изменяющегося предмета, вещи – одной и той же «вещи». Но в акте перехода (и в его «описании») эти два порознь «непротиворечивых описания» с необходимостью сталкиваются друг с другом и каждое из них оказывается столь же «правильным», как и противоположное… Вечер – столько же «день», сколько и «ночь».
Поэтому-то любой переход и оказывается для диалектически невоспитанного ума камнем преткновения. В его выражении сталкиваются в сшибке, в противоречии два противоположных «описания», две «рассудочные» (т.е. строго и однозначно зафиксированные) абстракции.
Этой сшибки не происходит, пока два предмета фиксируются и осознаются просто как два «разных», равнодушно стоящих или лежащих рядом предмета, «вещи», как два «рядом положенные» объекта, «субъекта определений». Поэтому мышление, привыкшее к строго однозначно «определенным» вещам (это – зерно, а это – хлеб, это – день, а это – ночь), и фиксирует эти определенные образы соответственно разными «определенными» словами, терминами, в которых не находит своего выражения связь перехода, связь превращения, генетическая связь между ними. Вещи, определенные разными словами, и представляются поэтому разными – и только…
«Противоречие» тем самым изгоняется из словесного описания, но вместе с ним из этого «описания» улетучивается и какой бы то ни было намек на связь перехода от одного к другому. Ибо высшим принципом «правильного описания» (правильного определения термина) тут становится принцип, отчетливо сформулированный следующим образом: любая вещь должна быть описана так, чтобы это «описание» осталось правильным и в том случае, если бы все остальные вещи в мироздании вовсе не существовали (это – принцип, сформулированный родоначальником «логического позитивизма» Людвигом Витгенштейном. То, что он предпочитает говорить не о «вещах», а о «фактах», дела не меняет нисколько). Здесь, в проблеме «правильного определения» вещи или «факта», диалектика сразу же и сталкивается в непримиримом разногласии с недиалектическим (додиалектическим, антидиалектическим) мышлением.
Мысль Гегеля в данном пункте предельно проста (хотя ее выражение в собственных сочинениях Гегеля и не столь прозрачно): мы только тогда правильно поймем и «опишем» вещь, когда в ней самой (и в ее словесных определениях) выявили не только ее «наличное бытие», но и те ее особенности, благодаря которым она рано или поздно «погибнет», т.е. превратится в «другую» вещь, в «свое другое», в свою противоположность (как живое – в мертвое, а мертвое – в живое).
Как хорошо прокомментировал эту мысль «Логики» Гегеля М.М. Розенталь: «Реальный смысл его диалектики конечного означал, что каждая конечная вещь имеет не только свою определенность, т.е. качество, делающее ее данной вещью, но и содержит в себе свою отрицательность, которая “гонит” ее к своему концу, к переходу в нечто иное. Уже то обстоятельство, что предмет имеет определенность, означает существование границы, отделяющей его от других вещей, иными словами, означает отрицание его другим. Но отрицательность как свойство вещей имеет более глубокий смысл: другое, противоположное данному предмету, есть не внешнее другое, а его собственное другое, другое его самого»6. Иными словами, день превращается в ночь, а не в стеариновую свечку или в дождь…
Если же взять «пример» более серьезный, то товар, как форма экономической действительности, «превращается» в деньги, а не в машину, не в землю или же в искусственный спутник Земли.
И если вы в теоретическом определении «вещи» не выявили и не выразили вот этой конкретной противоположности, в которую необходимо превращается рано или поздно данная конкретная вещь, т.е. той противоположности, которая уже как-то «заключена» внутри ее, то вы не выразили (не поняли) до конца и ее «наличного бытия». Ибо не разглядели и не описали главного в ней – внутренне заложенной в ней необходимости перехода в ее собственное «другое».
Так, если вы не выявили тех особенностей «товарной» формы продукта, в силу которых эта форма «рождает» денежную форму, то вы не выявили и не поняли до конца ни того, ни другого, – ни товара, ни денег, – ни одной из этих двух очевидно «разных» вещей…
Эта гегелевская «логическая установка» не заключает в себе никакого идеализма, никакой мистики, скорее наоборот, она настолько проста, что скорее может показаться даже самоочевидной для всякого знакомого с современной наукой. Так, биология слишком хорошо понимает ныне, что нельзя до конца понять «жизнь», «живой организм», не выявив в нем самом тех особенностей, благодаря которым этот живой организм рано или поздно умирает, превращается в неживой предмет. И наоборот, не увидев и не поняв тех особенностей «неживой» материи (физико-химических условий и предпосылок, внутри коих рождается жизнь), которые «силой естественной необходимости», а не по чуду и не по случаю эту «противоположность» – живое – рождают, «выделяют» как свой продукт и результат.
М.М. Розенталь чрезвычайно точно и подводит итог этому размышлению Гегеля: «Звучащее на поверхностный взгляд схоластически положение Гегеля о том, что истинное, «диалектическое противоречие есть “различие не от некоторого другого, а от самого себя”, имеет кардинальное значение для понимания объективной закономерности превращения вещей, их переходов в иное» (курсив мой. – Э.И.).
Это значит: не поняв «внутреннего» различия, т.е. различия товара «от самого себя», т.е. наличия формально несовместимых (ибо «противоречащих друг другу») определений товарной формы продукта, вы не поняли ничего и в существе дела, в «сущности» этой формы, а потому, далее, и того факта, что «товар превращается в деньги» – в свое иное, в свою собственную противоположность, несовместимую с ним без очевидного противоречия. «Деньги» уже «затаены» в товаре, но не в готовом виде, а в виде неразрешенного и неразрешимого в пределах самой товарной формы противоречия, в виде наличия (в виде «наличного бытия») двух противоположных определенностей одной и той же – и именно товарной – формы продукта труда, в виде «меновой стоимости» и «потребительской стоимости».
Точно то же и с «жизнью», которая может быть понята только как результат внутренне свойственных химической среде, рождающей эту жизнь, коллизий, полярно направленных химических процессов, сталкивающихся в своего рода конфликте, в противоречии. При этом не забывая, что это – те же самые «конфликты» химизма, которые, «породив» жизнь, ее же потом (рано или поздно) и разрушают…
Поэтому-то Гегель дал прекрасное определение диалектики, указав, что она есть «не внешнее деяние субъективного мышления, а собственная душа содержания, органически выгоняющая свои ветви и плоды».
В свете сказанного становится понятной несостоятельность мнения, согласно которому «диалектика» вообще неразрывно связана с идеализмом и не допускает рационально-материалистической интерпретации, т.е. не может быть «совмещена» с материализмом «без противоречия». Это – старая песня, повторяемая с тех самых пор, как Маркс и Энгельс не только материалистически истолковали гегелевскую диалектику, но и показали, насколько возрастает ее «эвристическая сила» после такого истолкования.
Старая песня, лейтмотив которой так же стар, как сама философия: «противоречие»-де может иметь место «лишь в мышлении» и ни в коем случае не в «предмете мышления» – не в окружающем (мыслящего человека) мире. Это-де типичный «антропоморфизм», типичное «гипостазирование» формы субъективного мышления, т.е. недопустимая и нелогичная проекция формы субъективной деятельности на экран «мира вещей».
При этом опираются на этимологию – ведь буквально термин «противоречие» означает и в самом деле «речь против речи» (в немецком языке то же самое – «Wider – Spruch», – противосказывание, противоговорение).
А разве «вещи» говорят, разве они обладают речью?
Так против диалектики обращают «лингвистический» аргумент и факт, стараясь изобразить ее как очевидный антропоморфизм, как «гипостазирование»…
Так рассуждает о «противоречии» (и об «отрицании») и Жан-Поль Сартр, и хайдеггеровская «герменевтика», и даже некоторые из «марксистов», мыслящих диалектику только на гегелевский лад и потому принимающих ее за прирожденного «врага материализма».
Диалектика, дескать, рационально мыслима только как диалектика понятий, ибо противоречие возможно только между понятиями (между строго определенными терминами, ибо «понятием» тут и называют «строго однозначно» – т.е. «непротиворечиво» – определенный термин).
Поэтому, дескать, «противоречащие друг другу термины» могут не только сталкиваться (это происходит в ходе любого спора), но даже и совмещаться, мирно уживаться друг с другом в одной и той же голове, в одном и том же мыслящем (а точнее говоря – в «говорящем», в «высказывающемся») существе, но никак не в одном и том же предмете его, человека, мышления – не в одной и той же «вещи». Там это никак невозможно, ибо вещь не вещает, не высказывает себя. Это делает за нее человек, и при этом впадает в «диалектику», в «противоречие».
Поэтому диалектику с ее фундаментальным принципом (категорией) – противоречием – ряд современных буржуазных школ готовы – и даже с радостью – признать. Но только как диалектику (как противоречие) в системе терминов, в языке и в высказывающей речи (франкфуртская школа, «герменевтика», «философия языка» и т.д.).
Но никак – не в предмете, о котором идет эта речь, о котором сказка сказывается.
Ибо «диалектика», выявляя «противоречие», тем самым разрушает предмет, – а потому есть враг-губитель, «отрицающий» «все конечное», весь «мир вещей» (т.е. «конечные» образования).
(На этом основании итальянский философ-марксист Лючио Коллетти заключает о невозможности материалистической диалектики, о несостоятельности самой затеи материалистической интерпретации гегелевской диалектики и доказывает, что диалектика и не может быть иной, кроме как объективно-идеалистической, т.е. гегелевской, – см. его работу: Il marxismo e Hegel. Bari, 1969.)
Аргументация Коллетти проста: Гегель все усилия направляет на то, чтобы доказать противоречивость всего «конечного» – вещей, явлений, состояний, и, делая это, он показывает «преходящую природу и ценность материального мира вообще», чтобы на место этого зыбкого и ставшего призрачным мира поставить одно лишь «бесконечное» – то бишь абсолют, бога в его просвещенно-философском варианте.
Конечно же формально Гегелю можно дать и такое толкование – тем легче, что Гегель и сам ему не был чужд.
Но говорить так – и значит принимать гегелевские слова, гегелевские фразы, за абсолютно точное выражение сути диалектики вообще (или – за то же самое – заранее не допускать никакой другой интерпретации диалектики, кроме ортодоксально-гегельянской).
На деле-то диалектика вообще (очищенная от ее гегельянской ограниченности) доказывает «зыбкость и призрачность» не вообще материального мира (как то кажется Коллетти, разделившему с Гегелем его основную иллюзию), а лишь временность (непрочность, невечность) любой данной материальной вещи, любого данного – конечного – состояния или образования внутри бесконечного материального мира…
А вовсе не самого «материального мира вообще», – это уж просто нелогичная передержка.
Тем не менее относительно ортодоксально-гегелевской (идеалистической) диалектики и ее центральной категории – противоречия – Коллетти не так уж не прав, попадая в центр проблемы – проблемы различия идеалистического и материалистического вариантов диалектики.
Можно понять тревогу Л. Коллетти – идеалистическая диалектика действительно чревата таким неприятным последствием, как высокомерно-пренебрежительное отношение очарованного ею ума к миру реальных вещей вообще, к миру эмпирически данных фактов, событий, явлений. Идеалистическая версия диалектики и в самом деле заключает в себе такую тенденцию, поскольку «внешний мир» превращается ею в своего рода колоссальный резервуар «примеров», призванных лишь «подтверждать» справедливость сформулированных ею диалектических положений.
Эта внутренне свойственная идеалистической диалектике черта или тенденция, могущая свести на нет и дискредитировать глубоко верные сами по себе формулировки, была названа когда-то (молодым Марксом) «некритическим позитивизмом», т.е. позицией, для которой «Логика дела» (т.е. конкретное содержание рассматриваемых явлений) начинает казаться чем-то не весьма существенным (и даже совершенно безразличным) для решения главной задачи теоретического мышления, занятого прежде всего и даже всецело «делом Логики».
Это тот самый перекос мышления, который В.И. Ленин назвал «превращением диалектики в сумму примеров», – перекос, несомненно связанный с идеалистическим ее пониманием и «применением». Перекос, который диалектика претерпевала не раз и не два, и не только у самого Гегеля, но и в сочинениях некоторых марксистов (даже таких известных, как Плеханов, Сталин и Мао Цзэдун).
Получается это там и тогда, где и когда общедиалектические истины (сами по себе совершенно бесспорные) обретают самодовлеющее значение – значение конечных (финальных) выводов всего познания, значение абсолютных формул. В этом случае на долю эмпирического мира – внешнего мира – не остается ничего другого, кроме незавидной роли «подтверждающей» их бесспорность инстанции.
Так и закипание воды в чайнике, и болезнь, наступившая от неумеренного потребления лекарства, и взрыв атомной бомбы в результате сближения двух половинок «критического заряда», и любой другой подобный факт становятся «примерами», подтверждающими формулу относительно «перехода количественных изменений в качественные». Сами по себе эти факты-примеры уже не интересуют мыслящего таким способом человека, их роль сводится исключительно к «подтверждению» общедиалектической формулы; они и осмысливаются исключительно с той стороны, что в них (как и везде) обнаруживается общедиалектическая закономерность, переход категорий…
Такое – по существу, чисто формальное – наложение общей (подтверждаемой) формулы на частный (подтверждающий) ее факт на первый взгляд ничего предосудительного, тем более вредного, в себе как будто и не содержит. Более того, это может быть даже «полезным» как дидактический прием разъяснения и пояснения «общего закона» через частный случай – прием, применяемый, как отметил В.И. Ленин, «ради популярности».
Да, как школьный прием «популяризации» диалектических истин он, может быть, и пригоден. Но не более. Если же этот «прием» принимается и выдается за пояснение сути диалектики, за способ обучения диалектике, он сразу же становится способом калечения мышления и ведет к воспитанию ума не только не диалектического, но и прямо антидиалектического. Ибо в нем скрыто (и им предполагается, а потому и активно воспитывается) предельно антидиалектическое понимание отношения всеобщего (закона) к особенному, к «частному» и единичному. Иными словами – антидиалектическое понимание самого «всеобщего», в котором начинают видеть лишь абстрактно-общую схему, выражающую то «одинаковое», что имеется у кипящего чайника с Великой французской революцией 1789-1793 годов, с фактом «усталости металла» или с «лопнувшим терпением»… И тут, и там видят все один и тот же «переход количества в качество», все одну и ту же схему, ничуть не изменяющуюся от того, в каком особенном факте она «проступает», «воплощается». А в этом понимании нет уже ни намека на диалектическое понимание и самого «всеобщего», и его перехода (связи) в особенное, в единичное.
Но при чем здесь идеализм? – спросит читатель. Разве не бывает того же самого перекоса и в мышлении материалиста? Разве популярные учебники по материалистической диалектике не строятся чаще всего таким же способом – т.е. сначала формулировка «диалектического» – всеобщего – закона, а потом поясняющие и «конкретизирующие» ее «примеры» из естествознания, из истории человечества и из истории науки (научного мышления, познания)? И что в этом плохого? Почему этим способом может быть внушена и воспитана диалектика без материализма, т.е. более или менее окарикатуренное подобие гегелевской диалектики? То самое, чего боится Л. Коллетти… А именно – того обстоятельства, что общие формулы и принципы диалектики (в том числе «противоречия») могут быть очень легко обращены в априорные схемы, в сфере которых и будет безвыходно вращаться теоретическое мышление, вместо того чтобы действительно исследовать окружающий мир. Опасение резонное. Таких случаев «злоупотребления» формулами диалектики XX век знает немало.
В качестве типичнейшего случая такого рода, позволяющего хорошо рассмотреть механизм этого извращения диалектики, можно взять «теоретические» новации Мао Цзэдуна и его учеников. Здесь мы имеем дело как раз с таким формальным наложением тезиса о противоречии на совершенно конкретные политические ситуации, в результате которого (наложения) эти ситуации (созданные самой же маоистской политикой) начинают выглядеть как очередное «подтверждение» всеобщего закона, как его – всеобщего закона – реализация и «воплощение».
Делается это очень нехитрым способом. Сначала провозглашается общая формула закона, сама по себе совершенно справедливая (и, в скобках добавим, сформулированная уже Гегелем), – формула, согласно которой всякое развитие в природе, обществе и в мышлении осуществляется путем возникновения внутренних различий, заостряющихся затем до степени внутреннего противоречия, разрешаемого через борьбу; эта формула делается затем «большой посылкой умозаключения», согласно коему и вначале единое международное коммунистическое движение обязано, подчиняясь все той же всеобщей схеме, обострять разногласия и «противоречия» в своих рядах, обязано «раздваиваться» на противоположности, вступающие далее в конфликт друг с другом, в борьбу на уничтожение…
Так формула о «раздвоении единого» – сама по себе совершенно справедливая – становится фразой, от имени которой выносится высшая «философско-диалектическая» санкция раскольнической политике маоистов.
Следуя той же логике, можно было бы сказать, что, поскольку формула А. Эйнштейна Е = mc2 справедлива, постольку уничтожение Хиросимы в 1945 году совершилось в полном соответствии с законами науки, со всеобщим законом современной физики, и тем самым – «правильно».
Логика та же самая – и взрыв атомной бомбы над Хиросимой, несомненно, «подтвердил» истинность формулы Эйнштейна, с одной стороны, а с другой стороны, бесспорно доказал, что и этот «частный случай» протекал в полном согласии с требованиями всеобщей формулы.
Но можно ли рассматривать формулу Е = mc2 как теоретическое обоснование и «оправдание» хиросимской трагедии? Очевидно, нет. Бомбу можно было и не бросать – ничуть не «нарушая» при этом законов теории относительности.
Столь же глупо было бы делать отсюда вывод о том, что формула Е = mc2 вообще неверна, т.е. не имеет всеобщего характера и значения, что она теоретически обосновывает разрушение цивилизации и вообще жизни на Земле. За действия американской военщины теория относительности, разумеется, не в ответе, ибо продиктованы эти действия вовсе не законами физики, хотя нигде этих законов и не нарушают…
Точно то же получается и с законами диалектики, когда их понимают как абстрактно-всеобщие формулы, в соответствии с коими протекает любой процесс в природе, обществе и мышлении – и закипание воды в чайнике, и прорастание зерна, и освобождение стран Африки от ига колониализма, и даже торговля арбузами в больших городах, ибо ясно, что все эти процессы, имеющие – хотим мы того или не хотим – диалектический характер, формально могут быть легко «подведены» под всеобщие формулы «диалектики вообще», и тем самым «оправданы» этими формулами.
Ничего удивительного в этом нет, ибо «диалектика вообще и есть не более как наука о тех всеобщих законах, которые одинаково управляют и природой, и обществом, и самим человеческим мышлением».
Ф. Энгельс, формулируя приведенное определение диалектики вообще, специально поясняет, что оно относится к любой исторической форме диалектики – и к античной, и к гегелевской, и к научно-материалистической ееформе.
Никакого указания на специальные особенности материалистической теории диалектики это общее определение в себе не заключает, это именно определение диалектики вообще.
И тот, кто принимает это определение за основное определение материалистической диалектики Маркса, Энгельса и Ленина, показывает тем самым, что он не видит действительного различия (действительной противоположности) между гегелевским и марксистско-ленинским вариантами понимания этой науки.
Гегель тоже прекрасно понимал, что диалектические законы одинаково управляют всеми изменениями – и в субъективном человеческом мышлении, и в чувственно воспринимаемом – внешнем – мире; они выражают те всеобщие формы, в рамках которых существует и изменяется не только мир в сознании человека, но и мир вещей вне сознания, вне «субъективного мышления».
Этим, собственно, гегелевская диалектика и отличается от диалектики Канта и Фихте, от субъективно-идеалистического ее варианта.
Потому-то, по Гегелю, законы диалектики и не характеризуют специфически (т.е. в их особенностях) ни мира чувственно воспринимаемых вещей, ни процесса его сознания (познания) человеком.
«Специфическая» диалектика познания поэтому и обрисовывается в его системе не «Логикой», а «Феноменологией духа»: специальная же диалектика естественно-природных явлений налагается в виде философии природы.
Логика же (или диалектика вообще, в ее общей форме) понимается и разрабатывается в его учении как наука о мышлении бога в его «домировом существовании», как наука о формах деятельности, одинаково создающей и внешний мир, и человеческое мышление и потому-то абстрактно характеризующая и то и другое – и «мыслимый мир» и «мыслящее его мышление» человека.
Логика поэтому и обрисовывает лишь те общие формы и законы, в рамках которых одинаково движется (изменяется) и мир вещей, и мир человеческих представлений о мире вещей. «Специфической природы» ни духа, ни природы логические формы и законы не выражают – именно поэтому «Логика», излагающая диалектику в общей форме, и определяется Гегелем как «изображение бога, каков он есть в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа»7.
Специфическую диалектику духа, каким он проявляет себя в человеке, в истории человечества, рисует поэтому уже не «Логика», а «Философия духа» (третья часть системы философии), точно так же, как специальная диалектика природы составляет содержание второй части системы – «Философии природы», «Натурфилософии».
Законы и формы диалектического развития в общей их форме, «как таковые», очищенные от всякой специфики их проявления в человеческой истории и в природе, изображаются в «Науке логики» – и только в ней.
И если сам Гегель называет диалектику (логику) изображением «бога» в его домировом существовании, то реальным ее содержанием (поскольку бога нет) являются на самом деле именно всеобщие формы и законы, одинаково управляющие и внешним миром, и человеческим мышлением. А вовсе не специфические законы и формы человеческого («конечного») мышления, рассматриваемые в «Феноменологии» и «Философии духа».
Этот пункт принципиально важен для уразумения как особенностей гегелевской диалектики, так и ее отличия от материалистической диалектики Маркса, Энгельса и Ленина.
Это различие заключается вовсе не в том, что материалистическая диалектика имеет своим предметом всеобщие формы и законы изменения и внешнего мира («бытия»), и человеческого мышления, а гегелевская будто бы только «мышление».
В этом как раз никакого различия между ними нет. А видеть различие там, где его нет, значит остаться слепым по отношению к пункту, где это различие (и противоположность) находится на самом деле. Это часто и случается с комментаторами Гегеля, принимающими гегелевские фразы о диалектике за действительную суть его диалектики и потому разделяющими с ним все иллюзии на этот счет.
Идеализм гегелевской диалектики заключается вовсе не в том, что Гегель будто бы исследовал только «мышление» и потому толковал философию вообще как чистое «мышление о мышлении».
Соответственно и материализм в понимании диалектики состоит вовсе не в том, что тут речь идет «не о диалектике мышления», а о диалектике естественно-природных и социально-исторических процессов.
В этом гегелевская диалектика абсолютно ничем не отличается от материалистической – и там и тут речь идет именно о тех всеобщих законах, которые управляют одинаково и человеческим мышлением, и миром естественно-природных и социальных процессов (и мышлением, и «бытием», т.е. природой плюс обществом).
Изображением этих общих (и тому и другому) законов изменения и является логика Гегеля. Они и составляют (в отличие от его фраз о «боге») ее реальное содержание.
«Бог» Гегеля – что прекрасно понимали уже его современники – есть не что иное, как обожествленное человеческое мышление, или, что то же самое, – всеобщая схема развития «самосознания» человеческого («конечного») духа (т.е. развития науки, искусства, правосознания и техники).
Поэтому реально Гегель выводит эту схему из скрупулезнейшего анализа коллизий развития духовной и практической (т.е. «нравственной») культуры человечества путем ретроспективного рассмотрения человеческим духом своей собственной истории – истории философии, наук вообще, истории индивидуального развития мыслящего существа, истории государственно-правовых образований (и даже экономических систем взаимоотношений между людьми – между «конечными духами», как выражается сам Гегель).
Потому реально-то его «Логика» и есть изображение всеобщей схемы, в рамках которой происходило и происходит развитие науки, техники и нравственности (а «нравственность» включает у Гегеля не только отвлеченную мораль, но и всю совокупность реальных взаимоотношений между людьми – начиная от бытовых и кончая государственно-правовыми и экономическими их формами).
Эти законы, управляющие развитием науки, техники и нравственности, Гегель и титулует «божественными», а «Логику» (изображение их) – «изображением бога в его домировом существовании», или изображением сверхчеловеческого, «чистого», абсолютного мышления, мышления как такового, «в-себе-и-для-себя-существующего мышления».
В результате законы и формы развития реального человеческого мышления в его системе изображаются дважды: один раз – в «Феноменологии» (и в «Философии духа»), а другой раз – в «Науке логики».
В чем же разница между этими двумя изображениями одного и того же (на самом деле!) предмета – форм и законов исторического развития человеческого мышления?
Сам Гегель дает такой ответ: в «Феноменологии духа» обрисовывается исторический опыт сознания (мышления), прорисовываются те формы и закономерности, которые управляют развитием и индивидуального, и коллективного сознания людей о внешнем мире и о самом себе, специфические формы и законы человеческого мышления, созидающего мир культуры (науку, искусство, религию, нравственность), в «Науке логики» же речь идет исключительно о тех всеобщих формах и законах, которым одинаково подчиняется и развитие сознания людей, и «внешний мир», мир «вещей в себе», т.е. формы и законы абсолютного, «божественного» мышления. Или же, что то же самое, – формы и законы человеческого мышления, постигающего свою «абсолютную», «божественную» природу, формы и законы деятельности, творящей и воспроизводящей внешний мир, и потому запечатленные в нем как формы вещей, наблюдаемые как формы «окаменевшего» в этих вещах мирового разума, «бога».
Стало быть, вся тайна гегелевской идеалистической диалектики сосредоточивается в понимании человеческого мышления и его взаимоотношений с внешним миром, с естественно-природными и социально-историческими явлениями.
Идеализм гегелевской диалектики заключается, как известно, в том, что в нем происходит обожествление реального человеческого мышления, – в том, что это реальное человеческое мышление изображается в нем ложно, как некоторая космическая сила, лишь «проявляющаяся» в человеке, а не как деятельная способность самого человеческого существа.
Сила Гегеля заключается в том, что «обожествляет» он все же реальное человеческое мышление, действительные, выявленные им в исследовании истории науки, техники и нравственности логические формы и законы, в рамках которых оно совершается.
Слабость (идеализм) его заключается в том, что он это реальное человеческое мышление обожествляет, т.е. изображает как силу и способность некоторого иного, нежели человек, существа – «абсолютного субъекта» или «бога».
Весь вопрос, стало быть, сводится к тому, что именно заставляет Гегеля «обожествлять» мышление человека, изображать это мышление (его формы и законы) как вне и независимо от человека (и даже до человека) совершающийся (или свершившийся) процесс? Несомненно, что в основе этой иллюзии лежит опять-таки совершенно реальная, но рационально не понятая Гегелем особенность человеческого мышления, форм и закономерностей его возникновения и развития.
Всмотримся поэтому в гегелевскую концепцию несколько внимательнее, чтобы рассмотреть сквозь нее те реальные особенности мышления человека, которые и послужили основой для идеалистического искажения его изображения в «Логике».
Будем исходить из того, что к «богу» – к «божественному происхождению» – люди всегда прибегают не от хорошей жизни, т.е. потому, что оказываются не в состоянии объяснить реальные факты и заключенные в этих фактах трудности «естественным путем» – из самих этих фактов, не прибегая к помощи сверхъестественных сил.
(В скобках заметим, что сам Гегель прекрасно понимал, что понятие «бога» в истории познания всегда играло роль «сточного желоба, куда спускаются все неразрешенные противоречия», роль «спасителя» от неразрушимых для людей трудностей…)
И если Гегель титулует диалектические формы и законы человеческого мышления, выявленные им в истории науки, техники и нравственности, «божественными», то мы вправе видеть в этом лишь дипломатически (на языке его века) выраженное признание в своей неспособности ясно ответить на прямой вопрос: откуда же эти – логические – формы и закономерности в сознании (в субъективном мышлении) человека взялись, как и почему они в нем возникли, образовались? И почему они именно таковы, а не какие-либо иные?
Это и сегодня центральная проблема логики как науки. Именно этот кардинальный вопрос объективный идеализм оставляет без ответа. Еще точнее – отсутствие ответа на этот вопрос, выданное за ответ, и составляет суть объективного идеализма. Ответ Гегеля и гласит: логические формы и закономерности, выявляемые в историческом развитии человеческого мышления, суть божественные формы и закономерности, т.е. ни от человека, ни от человечества не зависящие и никак ему не подвластные схемы его собственной деятельности, «абсолютные», «безусловные» (т.е. ни от чего «другого» не зависящие, ничем другим не обусловленные) схемы. Суть этого оборота мысли заключается не в том, что Гегель традиционного «бога» наделяет «мышлением», скроенным по образу и подобию человеческого, а просто-напросто в том, что он реального мыслящего человека объявляет богом, водружая его на трон христианского бога. Гегелевская философия – это обожествление науки, интеллектуальной деятельности, осуществляемой людьми сообща как некоторый коллективный акт и процесс.
На первый взгляд в обожествлении такой действительно драгоценной человеческой способности, как научное мышление, нет ничего ни зазорного, ни дурного, тем более что оно, безусловно, достойнее, нежели обожествление королевской власти или мистической мудрости служителей церкви.
И тем не менее именно обожествление Интеллекта, Разума, Науки (составляющие суть гегелевского идеализма) обнаруживает все коварство всякого «обожествления» вообще, т.е. всякого изображения реальных человеческих способностей как способностей некоторого иного, нежели сам человек, гипотетического существа.
Дело в том, что всякое «обожествление» реальных человеческих сил и способностей на деле всегда приводит к соответствующему обожествлению – к превращению в предмет поклонения, в предмет некритического принятия – их наличного состояния. Наличные – исторически сложившиеся, а потому и исторически преходящие – силы и способности людей при этом неизбежно начинают представляться лишь с их «позитивной» стороны, со стороны одних лишь «плюсов», одних лишь «достижений» и «завоеваний», а все необходимо связанные с ними «минусы» начинают казаться более или менее случайными и несущественными деталями, лишь досадными «недоделками», «отдельными недостатками», не заслуживающими особого внимания и места в изображении обожествляемого предмета.
Обожествление вообще всегда ведь и состоит в такого рода абстрагировании (отвлечении) от всего того, что составляет «отрицательную» сторону рассматриваемых явлений, а тем самым и от тех внутренних противоречий, которые рано или поздно разрушат обожествляемый предмет (т.е. данный, наличный уровень его развития, его исторической зрелости).
Всякое обожествление поэтому всегда и неизбежно оборачивается изменой диалектике, слепой в отношении тех реальных противоречий, которые как раз и составляют «пружину» дальнейшего развития; «мотор» движения, выводящего за пределы наличного положения вещей (и тем самым развивающего иллюзию его «божественности»).
При этом нельзя упускать из виду одну важную особенность такого употребления (применения) диалектики в ее ортодоксально-гегелевской форме. А именно – она способна «обожествлять» вовсе не только то, что прочно устоялось и обрело стойкость предрассудка. Иначе: гегельянец вовсе не обязательно должен быть консерватором или реакционером. Он может быть, как раз наоборот, архиреволюционером – и такое обожествление ультралевого бунтарства также хорошо может быть согласовано со всеми формальными канонами идеалистической диалектики, как и апологетика прусской государственности. Достаточно напомнить теоретические труды Герберта Маркузе или некоторых сторонников «негативной диалектики», безоговорочно ставших на позиции «новых левых».
Так что в логических принципах гегелевской (идеалистической) диалектики вовсе не заключена необходимость ее консервативно-охранительного использования. Ложь гегелевского принципа лежит глубже, и именно – в отсутствии вообще необходимой связи между логикой и каким-либо (любым) ее «применением», вообще в ее предельной формальности.
Именно поэтому гегелевская диалектика уже вскоре после кончины ее создателя была использована в качестве оружия прямо противоположными по своим политически-правовым позициям партиями – правыми и «левыми» гегельянцами. Более того, – и в этом убеждал урок Моисея Гесса – гегелевскую диалектику оказалось возможным обратить против святая святых буржуазного сознания – против понятия частной собственности вообще, в пользу отрицания частной собственности, т.е. в пользу коммунизма (то же самое по сути, только не столь изящно и ловко проделывал и Прудон в его «Философии нищеты»).
Исторически случилось именно так, что принципиально-глубинные недостатки гегелевской диалектики (логики) со всей отчетливостью выступили там, где эта диалектика была «применена» к решению проблемы, имевшей вовсе не философско-логический характер, – проблемы частной собственности и ее отрицания, т.е. коммунизма. Именно тут выявилось то обстоятельство, что теоретическое мышление, взявшее на свое вооружение гегелевскую логику, оказывается в положении буриданова осла, как только перед ним из гущи жизни вырастает действительно диалектическая проблема, доведенное до антиномической остроты противоречие. Оказывалось, что перед лицом такой проблемы гегелевская логика не способна ориентировать мышление на какое бы то ни было однозначное решение. Точнее, ее принципы позволяли одинаково хорошо («логично») обосновать и тезис об «абсолютной разумности» частной собственности, и тезис о необходимости ее ликвидации, ее «отрицания». Коммунистическая доктрина была «выведена» Моисеем Гессом в качестве «диалектического отрицания частной собственности» по всем правилам гегелевской логики, при полном соблюдении всего логического этикета, с использованием всего терминологического и фразеологического арсенала языка «Науки логики».
Обнаружилось, что гегелевская диалектика (логика) вполне допускает и такое применение, что гегелевские категории «абсолютного разума» одинаково хорошо накладываются на оба непримиримо сталкивающиеся в действительности процесса и потому одинаково хорошо «оправдывают» и тот и другой…
На чьей же стороне в этом столкновении оказывается «абсолютный разум», подлинно диалектическое мышление, наука?
Гегелевский «Разум» в этом пункте молчал, обнаруживая, что внутри него, «в себе и для себя», не содержится критерия, позволяющего хотя бы теоретически разрешить реальное, остро назревшее противоречие.
Все, что оставалось этому «Разуму» в такой ситуации делать – это пассивно ждать, пока противоречие (частная собственность и ее отрицание, коммунизм) разрешится «само собой». Тогда – задним числом – этот «Разум» блистательно диалектически справился бы с задачей, подтвердив гегелевский образ совы Минервы, которая вылетает лишь с наступлением сумерек, тогда, когда реальный процесс уже свершился и речь идет лишь о том, чтобы задним числом вынести ему высшую – философско-логическую – санкцию.
Однако в самый напряженный момент схватки гегелевский «Разум» (т.е. обожествленное теоретическое мышление) не может определить – на чьей же он стороне? На чьей стороне «Разум», а на чьей – Неразумие, нелогичность, антидиалектичность? Это значит, что он и в себе самом не способен разграничить – не обращаясь к вне-логическим факторам и соображениям – себя (разумное) от своей собственной противоположности, от косности невежества… Это и означало, что «Разум» лишь задним числом решает, в какую же из двух насмерть сталкивающихся партий ему «воплотиться», «опредметиться», «объективироваться».
Иначе говоря, решить этот вопрос гегелевский «Разум» может лишь тогда, когда его помощь окажется уже ненужной… Когда проблема будет решена и без его помощи…
Еще иначе, мышление, возомнившее себя Богом, Демиургом действительных событий, «Natura naturans» («творящей природой»), оказывалось всего-навсего пассивным регистратором свершившегося и начинало напоминать собой скорее канцеляриста в божественной канцелярии, нежели самого Творца…
Если «Разум» в истории и в самом деле обречен на такую, и только на такую, роль, то полагаться на его помощь в решающие поворотные моменты исторического процесса и в самом деле невозможно, «неразумно».
А это и означало, что «Разум» (теоретическое мышление), реально участвующий в истории и хотя бы немного влияющий на ее ход, обладает «внутри себя» каким-то критерием, позволяющим ему делать выбор между альтернативными решениями, между противоположностями, столкнувшимися в непримиримом конфликте.
И этот-то критерий в гегелевском изображении разума остался невыявленным, неосознанным. А это и означало, что гегелевская логика, вооружившая научную мысль методом выявления и фиксации противоречий развивающейся действительности, оказывается плохим помощником там, где во всей остроте вставал вопрос о путях и способах разрешения назревших и уже достаточно остро выявленных мышлением противоречий.
В этом пункте ее рекомендации становились сбивчивыми, двусмысленными; хуже то, в определенных пунктах они начинали ориентировать мышление не на поиск радикального решения, а как раз наоборот – на чисто формальное «примирение» выявившихся противоположностей в лоне некоторой «высшей», в них самих никак не заключенной, «истины».
Именно тут и выявлялся идеализм гегелевской диалектики и логики.
«При всей революционности своего учения о противоречиях Гегель слабее всего развил те его стороны, которые связаны с моментом разрешения противоречий», – справедливо констатирует М.М. Розенталь 8.
Это, конечно, не означает, что гегелевская схема, ориентирующаяся на поиски «опосредствования» противоположностей в составе некоторой более высокой ступени развития, внутри которой они «примиряются», именно и сосредоточивает в себе главный порок гегелевского идеализма и что поэтому ее следует заменить формулой, обязывающей всегда и везде доводить выражение противоположностей до предельно резкого их «противоречия», до той точки, где никакое «примирение» их становится уже невозможным и вопрос решает только «борьба» – и именно борьба на уничтожение, борьба «до победного конца», кончающаяся лишь «смертью», гибелью одного из «противников», одной из «сторон противоречия».
Такой корректив отнюдь не выводил бы мышление из тупика идеалистической диалектики на просторы материализма, – он на деле означал бы всего-навсего замену одной «абсолютной» схемы на другую, хотя и формально противоположную, но столь же «абсолютную», столь же «божественную».
Это и означало бы простое «переворачивание» Гегеля с головы на ноги, ровно ничего в нем не меняющее по существу – уже потому, что в гегелевском схематизме «разрешения противоречий» второй вариант («непримиримая» борьба) тоже не исключен, хотя сам Гегель и считал его «нежелательным», всегда предпочитая ему путь «опосредования» и «примирения». Но «желательное» и «предпочтительное» – не категории логики, они выражают лишь личную склонность. И какой именно вариант «разрешения противоречия» избирает в данном случае «мировой дух» (т.е. обожествленное человеческое мышление) – от склонности того или иного лица никак не зависит. Поэтому-то из среды людей, ум которых был воспитан гегелевской логикой, и выходили не только консерваторы, но и ультрареволюционеры, остававшиеся до конца тем не менее законченными идеалистами в понимании существа диалектики. Достаточно назвать хотя бы одного Михаила Бакунина. Так что вовсе не достаточно переместить акценты с «примирения» на «борьбу», чтобы преобразовать гегелевскую диалектику в материалистическую. Такое перемещение «акцентов» оставляет диалектику стопроцентно гегелевской, так как обожествление «борьбы за уничтожение» ничуть не лучше и не разумнее, нежели обожествление «примирения» и «опосредования».
«Революция» и «непримиримая борьба», если их превращают в идола, в нового бога, в новый «абсолют», тоже не сулят людям ничего хорошего. Мышление «новых левых» и их теоретиков (в том числе и превращенного ими в божка Мао Цзэдуна) показывает это обстоятельство с очевидностью. Идеализм всегда и был, и остается обожествлением, а обожествление (чего бы то ни было и кого бы то ни было) и есть суть идеализма.
И идеалистическое искажение диалектики (т.е. гегелевский вариант диалектики) и есть не что иное, как «обожествление» реального человеческого мышления, развившегося до уровня науки, или, что то же самое, самомнение научного мышления, возомнившего себя творцом, всемогущим (ибо непогрешимым) Демиургом, созидателем всей человеческой цивилизации, вождем и учителем людей на пути их исторического развития.
Эта иллюзия, свойственная вовсе не только Гегелю и очень естественная для любого профессионала умственного (научно-теоретического) труда, как раз и обусловила собой все другие, даже чисто формальные искажения реальной диалектики в системе Гегеля, т.е. именно ее идеалистические искажения. Потому-то действительно конструктивное критическое преодоление гегелевской формы диалектики и могло исторически произойти только вместе с решительным преодолением идеализма в понимании истории человечества, только вместе с решительным переходом на рельсы материалистического ее понимания.
Материалистическая диалектика и материалистическое понимание истории – это не два разных учения, не две разные теории (в таком случае их можно было бы и создать, и излагать независимо одну от другой, а справедливость одной не обязательно предполагало бы верность другой), а лишь два неразрывно связанных между собой аспекта одного и того же учения, понимания одного и того же предмета.
Вот этого-то решающего обстоятельства никогда и не улавливали в теории Маркса – Энгельса те ревизионисты, которые, начиная с Э. Бернштейна, хотели сохранить «материалистическое понимание истории», но старались «очистить» его от всех следов «гегелевской диалектики», и прежде всего, разумеется, от «противоречия» – от категории, которая, по их представлению, принципиально не поддается материалистической интерпретации и противопоказана «научному мышлению».
Насчет того, что «научному мышлению» показано, а что противопоказано, теоретики этого сорта всегда составляли себе представление по позитивистским и неопозитивистским руководствам; а все эти «руководства» всегда принимали и принимают за аксиому, не подлежащую ни сомнению, ни даже спокойному обсуждению, ту старинную догму, согласно которой идеалом научного мышления всегда была и остается «непротиворечивость», а «противоречие» есть всегда и везде лишь симптом и показатель несовершенства научного мышления, его несоответствия «идеалу».
«Антинаучность» диалектики ревизионисты всегда обосновывали тем обстоятельством, что наука (на деле-то лишь их собственное представление о науке) всегда старается построить «непротиворечивую» теорию и не терпит «противоречий», а злокозненный Гегель – и попавшиеся ему на удочку Маркс и Энгельс – стараются утвердить «противоречие» в статусе законной логической формы научного мышления и потому не видят в «противоречии» ничего плохого, даже призывают мириться с наличием «логических противоречий» в составе теории, «науки».
Предельно четко выразил эту позицию «марксист» Адам Шафф: «Если признавать ее (речь идет о формальной логике с ее принципом “запрета противоречия”. – Э.И.), то нельзя примирить это признание с допущением логической противоречивости, неизбежно вытекающей из принятия объективной противоречивости, которая содержится в материальном движении. Либо ошибочна формальная логика, либо ошибочно положение об объективной противоречивости движения. От необходимости действительного решения этой проблемы нас не спасут ни “диалектические” фразы, ни обвинения в ревизионизме. Научная истина стоит превыше всего…»9.
Все это, разумеется, сопровождается шаблонными упреками в адрес Энгельса, который-де «некритически» переписал у Гегеля рассуждения относительно движущегося тела, которое «и находится и не находится в данное время в данном месте…». Гегелевская диалектика вообще и ориентирует-де мышление на такие «неправильные», «некорректные» высказывания, вынося им высшую – диалектико-логическую – санкцию и тем «оправдывая» их, вынуждая «примиряться» с ними, с чем наука – а иначе как от имени науки и научной истины Адам Шафф и не вещает – никак согласиться не может…
Само собой понятно, что тезис о «врожденной» антинаучности гегелевской диалектики есть всего-навсего перевернутый тезис о прирожденной антидиалектичности «науки». Нетрудно показать, однако, что под словом «наука» тут имеется в виду вовсе не реальная наука как исторически развивающаяся система знаний человека о мире и о самом себе, а всего-навсего некоторая «знаковая система», система «терминов» и «высказываний», построенная в согласии с рядом заранее выставленных правил, в число которых входит, разумеется, и «запрет противоречия».
Разумеется, если согласиться с таким пониманием «науки» и «научной истины», то ни о какой диалектике, ни о каком развитии через противоречия разговора уже быть не может.
Поскольку же Гегель (а следовательно, и материалистическая интерпретация его логики) базируется на совершенно ином понимании науки, то бишь мышления, достигшего уровня научности, постольку вопрос о формальных определениях мышления может быть удовлетворительно решен только на основе ясного решения вопроса о роли и функции мышления в развитии всей человеческой культуры, о роли и функции мышления в истории человечества. О месте «Разума» в истории.
И вот тут-то материализм сталкивается с идеализмом в прямой и ясной форме, не загороженной деталями и туманными словесами.
Идеализм оказывается в этом пункте перед очень неприятной для него проблемой. А именно: если мышление начинает мнить себя богом – творцом истории, то оно вынуждено брать на себя ответственность не только за «успехи и достижения», несомненно завоеванные мыслящими людьми, но и за все их поражения, за все их неудачи и провалы, – за все те результаты их деятельности, которые даже с натяжкой трудно назвать «разумными»…
В таком случае, как остроумно заметил Г. Маркузе, мышление, или «Разум», может быть, даже справедливо было бы определить… терминами, включающими в свою сферу рабство, инквизицию, детский труд, концентрационные лагеря, газовые камеры, подготовку к ядерной войне.
Естественно, что возводя мышление (науку) на трон прежнего бога, идеализм вынужден возлагать на этого нового бога ответственность и за Освенцим, и за Хиросиму, и за загрязнение Мирового океана, за отравление воздуха и воды промышленными отходами, и за все подобные явления, грозящие обернуться катастрофой для самого же этого мышления… В самом деле, не было бы научного мышления – ничего этого тоже не было бы… Отсюда своеобразный неоруссоизм.
Идеализм вообще может свести концы с концами в этой роковой для него ситуации только одним способом – объединить все подобные явления в категорию своеобразных «издержек производства» и наименовать эту категорию дипломатическим выражением – «негативным аспектом позитивного», отрицательной стороной успехов и достижений…
До поры до времени на этот «негативный аспект» еще с грехом пополам удается смотреть сквозь пальцы как на нечто второстепенное, хотя, увы, и необходимое, «дополнение». И гегелевская диалектика в общем-то именно к такому отношению к «негативному» и вела.
Но этот финал подстерегал ее не потому, что это была диалектика, а только потому, что это была идеалистическая диалектика – диалектика, соединенная с ложным самомнением науки (научного мышления и шире – мышления вообще), с ее самообожествлением.
И дело нисколько не меняется по существу от того, что акцент начинают ставить на «негативном», а на «достижения и успехи» начинают соответственно смотреть сквозь пальцы, как то делают в наши дни такие более или менее отдаленные потомки Гегеля, как Т. Адорно и Г. Маркузе. От такого перемещения акцентов диалектика никак не становится еще материалистической.
Диалектика тут начинает более походить на хитрость Мефистофеля, на дьявольский инструментарий разрушения всех человеческих надежд, а «позитивные» моменты, т.е. добытые с его помощью успехи и достижения, – на что-то вроде червячка на крючке, на обманчивую приманку; люди этого червячка заглатывают, как караси, и оказываются в котле дьявольской похлебки… Диалектика при этом смещении акцентов с «позитивного» на «негативное» меняет только свою тональность – из мажорно-оптимистической на «трагическую» – вот и все, – оставаясь по-прежнему сверхъестественной, сверхчеловечески мудрой и коварной силой, властвующей над людьми, вместо того чтобы быть орудием их власти над «внешним миром» с его чуждыми («отчужденными») образами (в число коих попадает опять-таки все – и кошмарная энергия атомного ядра, и монстры современной техники, и государство и пр. и пр.)
Что поделаешь, ведь дьявол – тот же бог, только с обратным знаком. Такая же сверхчеловеческая «мощь», только с противоположными умыслами… Неодолимая и непостижимая «объективная» сила, которая «воплощается» в мыслящих людей, превращая их в свои «говорящие орудия», в своих рабов, наивно полагающих, что они преследуют свои собственные цели и интересы, но на самом-то деле исполняющих мистически предначертания «внешней» и «чуждой» им космической силы диалектики, неодолимой власти безысходно трагических противоречий.
Идеалистическая диалектика неизбежно приобретает черты либо бога, либо дьявола – искусителя рода человеческого и как метод мышления оборачивается либо «некритическим позитивизмом», как у Гегеля и его правоверных последователей из числа «правых гегельянцев», либо – суперкритическим негативизмом старых и новых «левых». Это – две одинаково «естественные» ипостаси идеализма в понимании и применении диалектики, в понимании и применении силы мышления, ложно представляющего себе свою собственную функцию и роль в истории, в развитии социальных отношений между людьми и их взаимоотношений с природой.
Поэтому переход с рельсов идеалистической диалектики и иллюзии, ею неизбежно порождаемых, на рельсы научно-материалистического ее понимания и применения предполагает прежде всего решительное очищение от всяких следов идеализма, т.е. «обожествления» ее реального предмета – мышления, достигшего уровня научности.
Да, философский идеализм, в отличие от идеализма первобытно-религиозного, обожествляет научное мышление. Или, иначе и справедливей, в виде философского идеализма любого оттенка научное мышление обожествляет само себя, приписывает себе такую роль и функцию в истории человечества, в развитии производительной силы человеческого рода, которая на самом-то деле принадлежит вовсе не ему. Оно начинает воображать себя творцом человеческой цивилизации, тогда как на самом-то деле оно всегда было и остается в лучшем случае помощником.
Помощником умным и могучим, если ученое сословие достаточно хорошо поняло свою действительную роль в развитии всей человеческой культуры и эту действительную роль действительно выполняет.
«Помощником» – в кавычках – в тех случаях, когда его работа начинает руководствоваться ложным самосознанием, т.е. ложным сознанием своей собственной роли и функции. В таких случаях научное мышление, оставаясь формально «научным», оказывается соучастником весьма и весьма темных дел и затей, направленных на деле против прогресса, а тем самым и против самого себя, против своих собственных действительных «интересов». В таких случаях оно и попадает в итоге в ложное положение – в положение не только «соучастника», но и главного виновника, главного преступника, в единоличного ответчика и за Хиросиму, и за газовые камеры, и за подслушивание телефонных разговоров, и за все подобные подлые дела. А как же? Технику всех этих дел и в самом деле разрабатывали ведь на основе науки, и без «ученых» тут дело действительно не обошлось…
А действительные виновники остаются при этом в тени, потому-то они и подогревают иллюзии ученого сословия, когда это сословие служит их целям, чтобы потом свалить на него всю вину, когда затея – по существу своему ненаучная и даже антинаучная – кончается крахом, провалом и бедой и за эту беду кому-то надо нести ответственность.
Кому же и отвечать, если «наука» сама себя вообразила творцом, автором тех дел, в которых она была всего-навсего соавтором, и притом не главным? Кому же и отвечать, если подлинный, главный автор заявляет, что он всегда следовал науке и следовал ее рекомендациям, а потому не виноват в том, что наука его подвела?
Такова реальность идеалистических иллюзий науки о самой себе, о своей роли и функции. Вообразила себя богом – отвечай за все. И не пытайся свалить всю вину на «малограмотных исполнителей» своих предначертаний, – они действовали так, как ты их научила. Плохо научила – тоже виновата ты, и никто другой…
Расплачивайся за свои иллюзии относительно самой себя, за свой идеализм, за доверие к идеализму в понимании своей роли и функции.
Другой же выход состоит в том, чтобы, распрощавшись с идеалистической (очень приятной для самолюбия науки в период «успехов и достижений» и очень неприятной для нее тогда, когда обнаружилась «негативная сторона», т.е. непредвиденные ею последствия ее собственных рекомендаций) иллюзией, обрести трезвое «самосознание» – объективное понимание действительной роли, действительных возможностей мышления, а потому и действительных пределов «силы науки», «мощи понятия».
Прежде всего это означает, что наука (тем более отдельная наука, будь то физика или философия, математика или химия) вовсе не всемогуща и не всеведуща и потому не имеет права возлагать на себя все титулы прежнего, опрокинутого ею, бога. На место свергнутого бога не следует водружать нового с теми же атрибутами «всеведения» и «всемогущества». Перестать считать себя богом – значит попросту быть чуть поскромнее и понять, что наука (научное мышление), обожествленная идеалистической философией, есть на самом деле не творец и автор всего свершающегося, а лишь образованный референт-советчик при действительном «творце истории» – при человеке, понимаемом как «совокупность всех общественных отношений», как действительный конкретно-исторический «ансамбль» всех реально живущих, т.е. реально творящих жизнь, индивидов.
Когда Гегель обожествляет мышление и понятие, то это значит просто-напросто, что он придает философско-схоластическое выражение иллюзии, которую издавна питали и питают на свой счет профессионалы умственного (в наше время – научного) труда. Гегель разделяет с ними эту старинную иллюзию, состоящую в том, что «мышление» сделало человека человеком, что человек «есть существо мыслящее», или, иными словами, что именно в мышлении заключается специфическая характеристика человека, отличающая его от всего остального – как неорганического, так и органического – мира.
Согласно этой «антропологии», человек стал человеком в тот момент, когда он стал «мыслить», т.е. обрел «самосознание». Стало быть все остальные «силы и способности человека», равно как и их продукты, суть более или менее отдаленные результаты способности «мыслить», следствие мышления, как изначальной и фундаментальной «силы», проснувшейся в человеке и действующей в нем.
Продуктами – следствиями – результатами мышления и оказываются тут и каменный топор, и рубило, и способность человеческой руки вытесывать из грубого камня эти топор и рубило, и, далее, идолы и храмы (равно как и способность их воздвигать), и государственные учреждения, и машины – от примитивных ткацких станков до автоматических линий и синхрофазотронов, и грамматические нормы, и нейлоновые кальсоны, и все остальное – вплоть до космических ракет и спутников Земли.
Все это понимается (и теоретически определяется) как совокупность «внешних воплощений силы мышления». Как «овеществленное мышление», как «опредмеченное мышление», как «реализованное понятие» (или «идея», это уж терминологическая деталь).
Статуя – как «воплощенный» в мраморе замысел скульптора. Машина – как «осуществленный» – в дереве, в металле или в пластике – мысленный план инженера-конструктора. Государственные учреждения – как «реализованная идея» политического деятеля, «законодателя» ранга Ликурга или Солона, и т.д. и т.п.
Деятельность тех лиц, которые, в силу свершившегося до них и независимо от них разделения труда занимаются специально-умственным трудом, работают «головой», создавая для всех планы, замыслы, проекты до их «воплощения» в естественно-природном материале руками других людей, – вот та реалия, та «модель», с которой идеализм всегда и срисовывал образ бога, божественного мышления, божественного понятия, божественной идеи, абсолютного духа.
Само собой понятно, что чем резче и отчетливее отделяется умственный труд от труда физического (в самом широком смысле слова) и чем отчетливее он обособляется в особую сферу разделения общественного труда, сосредоточиваясь внутри касты профессионалов «мышления», тем прочнее и глубже делается почва для идеалистических иллюзий, которые питают эти жрецы – профессионалы мышления на счет своей собственной работы, ее роли и функции, ее значения и происхождения…
Гегелевская система и есть последняя, наиболее разработанная и всеохватывающая система «самосознания» профессионалов мышления (профессионалов «умственного» (теоретического) труда), разделяющая с ними все неизбежно возникающие внутри этого сословия иллюзии.
И прежде всего – ту иллюзию, что человек «сначала мыслит» (осуществляет теоретический акт), а уже затем переходит к его «практической реализации» в дереве, в бронзе, в камне, в земле или в любом другом естественно-природном материале, «воплощая» в нем созданные творческой силой «духа» идеи, затеи, образы, планы и тем самым – чем дальше, тем больше – превращая Землю в материал своего «внешнего воплощения», в сферу «реализованного мышления», – в ноосферу.
Мышление, о котором говорит Гегель, – это, конечно, не мышление отдельного человека, не психический акт, совершающийся под черепной крышкой индивида, в тайниках коры головного мозга. Если вы под словом «мышление» будете понимать это, и только это, вы никогда не сможете даже просто уловить подлинный смысл гегелевских текстов, не говоря уже об их критически-материалистическом понимании.
Под термином «мышление» у Гегеля всегда и везде имеется в виду та всеобщая способность (или «сила»), которая непосредственно осуществляется и потому фактически противостоит логику-исследователю в качестве предмета его внимания – не только и даже не столько внутри отдельной головы, сколько в пространстве, обнимающем собой миллионы таких «голов», связанных сетью коммуникаций как бы в одну «коллективную» голову – в «коллективный разум» человечества.
Под «мышлением» понимается, стало быть не индивидуально-психический процесс упорядочивания таких психических «единиц», как ощущение, переживание, представление или образ, а действительный процесс производства знания как коллективного богатства человечества, противостоящего индивиду с его психикой в виде науки, техники и нравственности.
Напомним еще раз, что «нравственность» в лексиконе Гегеля означает отнюдь не только отвлеченную «моральность», но и всю сферу реальных взаимоотношений человека к человеку, включая сюда и экономические, и политические, и юридические, и бытовые формы их взаимоотношений, т.е. всю систему «коммуникаций», связующих людей в группы, в классы, в нации, и, в конце концов, в «человечество», в «род».
Реализованное в виде науки, техники и нравственности «мышление» действительно противостоит индивиду с его психикой как особая объективная реальность – как процесс и его результаты, не зависящие от индивида с его волей и сознанием и, наоборот, определяющие волю и сознание индивида, способ и характер его индивидуальных действий.
«Абсолютная идея» Гегеля – не что иное, как название, под которым на самом деле кроется реальная духовная культура человечества, обрисованная в ее внутреннем членении, а «абсолютное мышление» – не что иное, как та же культура в ее развитии, в процессе ее производства и воспроизводства. Но почему же этот вполне реальный предмет – реальное мышление людей – обрисовывается Гегелем под титулом «абсолютного мышления», «бога в его доприродном существовании»? Откуда возникает эта иллюзия? Было бы крайней наивностью объяснять этот факт симпатиями Гегеля к религии или даже его желанием обрядить свою явно антирелигиозную концепцию, ставящую науку выше религии, в костюм привычной для современников фразеологии, в приемлемую для цензуры форму. Если последнее соображение и играло какую-либо роль, то далеко не главную. Разумеется, Гегель хотел быть «понятнее» для своего читателя, воспитанного в условиях официального мировоззрения, и потому то и дело иллюстрировал свои понятия библейскими образами, каждый раз оговаривая, впрочем, что это – всего лишь «образы», всего лишь «метафоры». Но, делая это, он тем самым признавал, что в религиозных образах заключается некоторое «рациональное зерно» – метафорическое выражение его собственных представлений, что религия – вовсе не чистое заблуждение.
Таким образом, заменяя религию наукой, он тем самым и выносил религии «научное оправдание». Наука у него «снимала» религию по всем правилам его логики, т.е. одновременно «хоронила» ее и «сохраняла» ее в своем составе, вбирая в себя ее «рациональное зерно».
Что же это было за «рациональное зерно»?
Гегель достаточно ясно и хорошо понимал, что образы «богов» всегда были и всегда остаются лишь своеобразными проекциями, в виде которых человек изображает и сознает лишь свои собственные «силы» и «способности», – только в виде «внешних» сил, в виде сил и способностей «внешнего» ему существа, нарисованного силой его воображения во внешнем пространстве, – в виде могучего и мудрого старичка с бородой, с усами, руками, ногами и прочими атрибутами. Такую – католическую – версию «бога» Гегель уже смолоду отвергал как протестант, как лютеранин, предпочитая видеть в евангельских притчах лишь моральную – и вовсе не фактически-историческую – правду.
Реальную «силу» и «правду» религии он видел в силе и правде тех нравственных устоев, которые от имени воображаемых «богов» диктовались реальным людям, тех «объективных норм» общежития, которые на самом-то деле установили сами же люди, обладающие мышлением, творческой способностью таковые нормы изобретать, формулировать и учреждать в качестве всеобщих и обязательных законов.
Гегель, иными словами, прекрасно понимал, что под именем Бога человек всегда почитал сам себя, а точнее, свое собственное самосознание – эту подлинную «божественную» силу и мощь истории.
Так его, по крайней мере, понимали все умные читатели, и Гегель никогда против такого понимания не возражал, об этом сохранились достаточно достоверные свидетельства Генриха Гейне.
Но Гегель (как позднее и Людвиг Фейербах) объяснял сам факт «проекции» этой «силы» на экран небес как факт «отчуждения», совершающийся лишь в поле воображения, как тень, отбрасываемую мыслящим человеком на экран «внешнего пространства». Лишь как явление воображения, и не более.
Человек «воображает» бога, а затем ведет себя сообразно воображаемым (им самим!) велениям этого воображаемого (им же самим!) «внешнего» существа. На самом деле – извне – никто его к такому фокусу воображения не принуждает. Только сама же сила воображения, рисующая внешние образы. Боги – это естественная и необходимая продукция силы воображения, ибо специальная функция воображения в том только и состоит, чтобы проецировать «внутренние состояния субъекта» – вовне, в виде картины, в виде образа, в виде статуи, вообще внешней «вещи».
Это совершенно верно – световые раздражения сетчатки глаза, зрительные ощущения преобразует в образ внешней вещи именно сила воображения. Без нее мы не видели бы вещей во внешнем пространстве, а испытывали бы только оптические раздражения внутри собственной головы, внутри глаза. Это – вполне достоверный, доказанный психологией и психофизиологией факт.
И чисто психологическое объяснение феномена «обожествления» человеком своих собственных «сил» (способностей), лежащее в основе гегелевско-фейербаховской концепции «отчуждения», является, по-видимому, совершенно бесспорным. Вряд ли можно к нему что-либо добавить и ныне, сто пятьдесят лет спустя.
Но самое полное «психологическое» объяснение религии и феномена «обожествления» человеком своих собственных «деятельных (т.е. творческих, активных) сил», способностей оставляет в тени самое главное.
А именно – почему же и после того, как тайна «бога» увидена в «отчужденном самосознании человека» и слово «бог» сделалось всего-навсего псевдонимом мыслящего человека (это и открыла для человечества немецкая классическая философия от Канта до Гегеля и Фейербаха), мышление все-таки продолжает казаться богом, т.е. некоторой совершенно безличной, сверхличной, объективной – т.е. никому не повинующейся воле и сознанию отдельных лиц, а, наоборот, определяющей их – «силой», к которой индивид с его волей и сознанием может лишь «приобщиться», может лишь превращать ее в свою индивидуальную «силу», развивая в себе способность действовать так, как диктует эта объективная, вне и независимо от него действующая «сила объективного мышления», «Разум».
Стоит лишь немного вдуматься в перечисленные выше характеристики «объективного» («обожествленного») мышления, и в них легко прочитывается не что иное, как самосознание науки, развивающейся в истории.
Да, наука действительно противостоит индивиду с его сознанием и волей как особый «предмет усвоения». Наука и есть не что иное, как «коллективный» (т.е. вполне безличный и сверхличный) разум человечества, от имени которого говорят и пишут «ученые», ее полномочные «представители», почитающие ее не менее глубоко, чем египетские жрецы – Амона или Ра или папа римский – авторитет авторов Библии.
Наука – это накопленный человечеством опыт познания, а не выдумка и не изобретение сознания и воли того или иного ученого, будь то Ньютон или И.П. Павлов, Максвелл или Дарвин. Это – всеобщее, а вовсе не индивидуальное богатство рода человеческого, ничуть не менее «объективное», т.е. вне и независимо от индивидуального сознания существующее, чем золотые слитки, кухонная утварь или даже дворец.
Тем более что наука «опредмечена» вовсе не только в книгах, не только в словах-терминах или формулах и чертежах и не только в виде институтов и академий, но и в конструкциях реальных машин и автоматических линий, в грозном вооружении армий и прочих органов государственной власти и даже в правовой структуре реального государства. В этом своем облике наука овеществленная сила знания, реализованное мышление, – действительно – а вовсе не только в воображении и не благодаря воображению – противостоит индивиду с его волей и сознанием как «сила», перед лицом которой «мышление индивида» (или мышление в качестве индивидуально-психической способности) это последнее и в самом деле – а не в горячечном воображении идеалистов – оказывается исчезающе малой величиной.
В этом виде мышление, будучи и оставаясь мышлением людей, т.е. индивидов в их реальной совместной деятельности, противостоит им же самим как особая, отделившаяся от них «сила» и «власть». И эта «власть» диктует мышлению каждого из индивидов свои законы, с которыми каждый из них вынужден считаться куда более осмотрительно, нежели со своими индивидуальными капризами и желаниями, представлениями и «созерцаниями». Эти законы и есть законы логики.
Законы исторического развития знания – законы, которым индивидуально-психические процессы подчиняются волей-неволей, хотят того или нет единичные «субъекты» этих процессов, отдельные люди-ученые…
Вот об этих-то законах – а не о законах субъективно-психической деятельности отдельных лиц – и пишет Гегель в своей логике.
Конечно, и деятельность психики индивида протекает всегда в рамках этих законов – они управляют и ею, но сначала они прорисовываются только и именно как законы исторического развития науки, техники и нравственности, а уже затем более или менее точно осознаются индивидами (в лице логиков) и делаются также и сознательно «применяемыми правилами» психической деятельности – правилами мышления как одной из психических способностей отдельного лица.
Более того, мышление индивида лишь постольку становится всеобщим (и признанным в качестве такового) достоянием, поскольку оно, во-первых, реализует назревшую в науке потребность, т.е. разрешает ту или иную научную проблему, то или иное противоречие в системе понятий науки, и, во-вторых, делает это с помощью средств, «понятных» всем другим индивидам, т.е. выражает свое решение в общепризнанных и общепонятных формах, пользуется общепринятым языком этой науки.
Иными словами, субъективное мышление индивида становится фактом научного развития лишь постольку и в той мере, поскольку оно выражается в форме вполне «безличной», «объективной», «всеобщей», в форме, созданной до него, независимо от него и заданной ему «извне».
Таким образом, иллюзия, свойственная Гегелю как представителю идеализма вообще, превращающая человеческую способность («мышление») в «объективную» (вне и независимо от человека существующую) «силу», имеет под собой весьма реальную основу – в том факте, что все без исключения «формы», в рамках которых совершается мышление отдельного лица, заданы ему «извне» – предшествующим ему развитием культуры.
И эта иллюзия окончательно укрепляется в сознании тем обстоятельством, что наука, превращаясь в особую сферу разделения общественного труда, действительно «отчуждается» от большинства индивидов и в этом – «отчужденном» – виде этому большинству противостоит как особая социальная сила, а вовсе не как их собственная способность.
Гегель и фиксирует мышление в этой – в отчужденной – форме его развития как мышление, ставшее профессией более или менее узкого круга лиц и потому достигающее «высших этажей» своего развития только как реальная «сила» немногих.
«Способность» мыслить, т.е. развивать наличное знание в любой профессионально обособившейся области (будь то квантовая механика или правосознание), осуществляется профессионалами-учеными, а остальным эта способность противостоит как внешняя и даже чуждая сила, как сила и власть «других», диктующая им от имени науки, как надлежит понимать тот или иной предмет.
Оставаясь всегда всеобщим продуктом человеческого развития, наука (научное мышление) не только представляется, но и действительно является особенным продуктом – продуктом особенной сферы разделения общественного труда, и чем сложнее и запутаннее становятся взаимоотношения ее с другими сферами производства, тем легче возникает и тем глубже укореняется в умах ее представителей иллюзия «саморазвития науки», «саморазвития понятия», т.е. формы научного познания, мышления, знания.