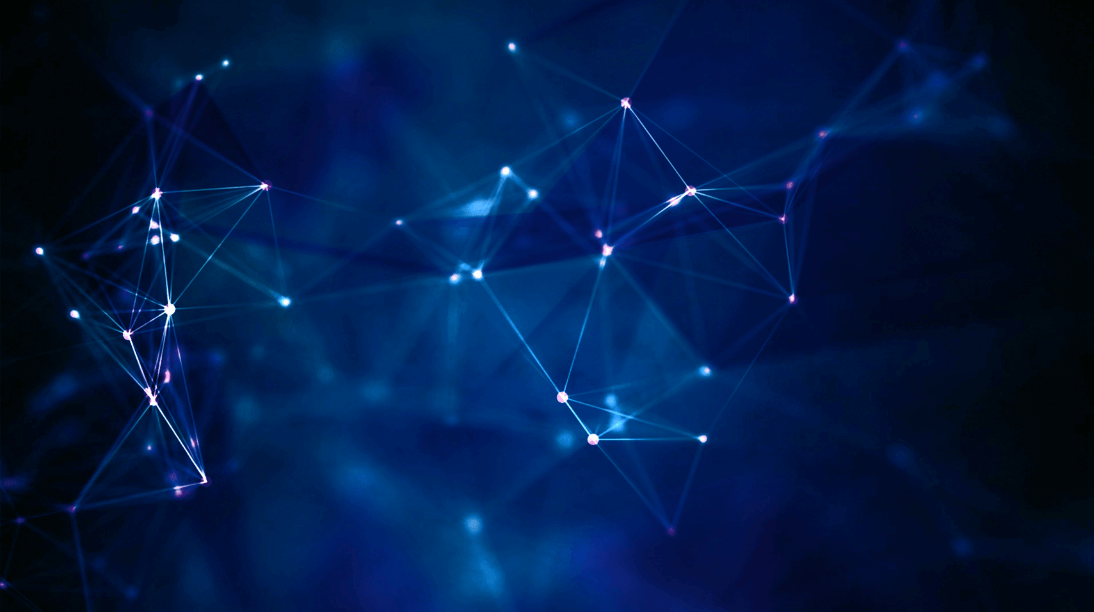От консультанта
Эта работа Семека — первое из его средних произведений (в оригинале занимает 32 страницы), которое приходит к восточному читателю. Она выбрана совсем не случайно, поскольку позволяет охватить взглядом некоторые узловые темы его творчества и является наиболее коротким из возможных введений в постановку вопросов, узловых для главной книги Марека Семека — «Идея трансцендентализма у Канта и Фихте». Вероятно, излишне будет заметить, что эта работа отсылает к историческим источникам, позволяющим на лучшем уровне, то есть без повторения ошибок предшественников, попытаться решить весьма острую политическую проблему выбора способа организованного принуждения и способа организованного становления субъектов. Несомненно, что актуальность этой проблемы станет вопиющей при ближайшей попытке преодоления товарности и становления системы непосредственного межсубъектного общения.
В языковом отношении предлагаемая работа Семека ориентирована в немалой степени на немецкий язык и, возможно, является переводом или вариантом одной из немецкоязычных публикаций Семека. В немецком языке целый ряд категорий, пронизывающих литературу как минимум от Канта до Маркса, по объективным причинам не может иметь адекватных славянских переводов. В частности, Семек неоднократно обыгрывает немецкое Verkehr, обыкновенно переводящийся как общение, но имеющее не менее пяти вспомогательных смыслов. Польский текст в соответствующих местах обычно даёт слово «коммуникация», которое как правило заменено; в том числе до неизбежной тавтологии «общественное общение», как явно всюду отсылающее к «общению» в «Немецкой идеологии». По всей видимости, неизбежно введение соответствующего немецкому verkehren глагола «общать», ибо его обычно предлагаемые переводы неточны (связывает, объединяет) или, в добавок к тому, устарели (сношать), а главное не отражают связи с категорией «общение». Также устранены обычные в немецком языке, но менее употребительные в славянских литературных нормах латинизмы. Отдельное внимание было уделено упрощению подачи мысли и разбиению длинных фраз на более простые. Это было сделано с тем однако условием, что короткие переводные предложения, относящиеся в оригинале к одному длинному соединены специальным значком, чтобы вдумчивый читатель мог примерно судить о правомерности разбиения, обратившись к оригиналу.
Полностью сохранены курсивы и начертания букв, данные Семеком, но в немногих местах без упоминания раскрыты скобки. Также удалены некоторые текстологические примечания Семека к польским источникам цитат, а цитирование сверено с доступными русскоязычному читателю источниками, на которые заново наложена авторская разметка. Традиционно отмечены <смысловые добавления от переводчика> и [изменения текста автором].
Две модели межсубъектности1
Перевод с польского 2
Мало кто в наше время сомневается в языковой природе человека. Эта языковость является нерушимым свойством всего человеческого разума. Повсеместно также признано, что её источники и функции имеют скорее связанную с общением3, а не «выразительную»4 природу. После «лингвистического поворота» в мышлении второй половины двадцатого века (это не очень удачное название было принято как определение парадигмы новой «философичности языка», открытой Витгенштейном и аналитической философией, а также Хайдегером, герменевтикой и французским структурализмом), мы уже с уверенностью можем говорить, что язык — это не просто «идеальное» выражение какой-либо изначальной до — и внеязыковой реальности непосредственного опыта. В противном случае он оставался бы чем-то внешним («воспроизводственным»5 или «ссылочным»6) к этой реальности. Язык, как «трансцендентальный» горизонт всякого опыта, сам является первейшей и наиболее непосредственной реальностью. Вне языка нету для нас ни мышления, ни деятельности, не говоря уже о разумном мышлении и деятельности. Эта пра-языковость человеческих познавательных и практических актов в сокращённом и символическом виде выражена уже в греческом logos (λόγος), как тождество «разума» и «слова». Но она, однако, обнаруживает свой полный смысл только в перспективе современной социальной философии. Ведь только здесь она выступает необходимой формой полемических взаимовлияний, в которых люди строят рациональное пространство своего общественного общения7.
Пожалуй, бесспорно сегодня то, что язык — единственная альтернатива чистому насилию и что он составляет первый шаг в процессе обобществления, а тем самым и в процессе собственно «очеловечивания человека». Кто-либо говорит только тогда, когда для этого существует побуждение извне.И это побуждение — про-вокация 8, вызов. Такой про-вокативный вызов можно сразу распознать, поскольку он принципиально отличается от чисто физического толчка. Его непреодолимость вызывает уже не непосредственную инстинктивную реакцию, а отражательную9 и опосредованную символически реакцию: ответ. Поэтому вызов впоследствии является вызовом к тому, чтобы говорить, так как прямо указывает на то, что исходит от кого-то говорящего. Язык, следовательно, выступает самой первой формой обобществления в качестве разговора, а, тем самым, насквозь симметричным взаимным отношением двух субъектов. Но эти субъекты, которые изначально существуют друг для друга в качестве «чужих», заранее и обоюдно удерживаются от преломления чуждости Другого насильственными методами или преодоления её «естественным» способом — силовой борьбой. Вместо этого они пытаются как-то понять друг друга.
Разговор предполагает потому то, что Другой, продолжая быть «Чужим», перестаёт однако быть врагом, объектом агрессии. Он становится ещё не известным, но уже предварительно признанным партнёром или — хотя бы потенциально — равнозначным субъектом. Это, собственно, такое взаимное признание, которое, несмотря на свой крайне рудиментарный характер, только лишь и делает возможным и запускает всё движение диалогического обмена «вызовов» и «ответов». Это признание основывается на принципе взаимности, который является неотделимой, истинно «трансцендентальной» причиной не только различных взаимодействий и межчеловеческих отношений, но также того возвращающегося к себе отношения10 «меня ко мне», которое формирует сущность личности11 как субъекта. Доминирующий в классической философии и европейской культуре «принцип субъективности» всё выразительнее открывается сегодня как общественный и исторический продукт, сформированный этой изначально коммуникативной межсубъектностью (интерсубъективностью), которая корениться в основаниях самого процесса обобществления.
Следует также напомнить, что трансцендентальная межсубъектность как основа человеческого общения (в смысле «Verkher» — пер.), культуры и разумности в целом не является открытием нашего века, века «лингвистического перелома», герменевтики и философии языка. Наоборот, корни этого двухсотлетнего открытия растут оттуда, откуда происходит вообще всё существенное философское самосознание современности: из наследия классической мысли немецкого идеализма. Сегодня стало совершенно ясно, что первым, кто в пределах этой традиции чётко распознал и описал диалогичную структуру такой изначальной межсубъектности, является Фихте, а не Гегель. Последние исследования в этом вопросе не оставляют никаких сомнений. Уже в 1794-1798 годах — уж точно раньше первых публикаций Гегеля — Фихте развил свою йенскую Теорию познания, в которой эта проблематика стоит в самом центре послекантовской трансцендентальной философии12.
Фихте: взаимность как диалогоческий обмен свободы
Это правда, что в своей главной йенской работе, Основа общего наукоучения (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre 1794/1795), Фихте ещё не ставит вопросов о межсубъектности прямо. Но именно они определяют направление и смысл проводимых там исследований целостности субъективно-объективного отношения между Я и Не-Я. Основополагающей формой этого отношения является полная взаимность структуральной связи и обоюдной зависимости её членов. Эта связь выражается в центральных категориях фихтеанского анализа в Основе… — «взаимодействие (Wechselwirkung)» и «взаимоопределение (Wechselbestimmung)». Эти категории описывают с различных сторон и на различных уровнях неразрывную связь субъективного Я с объективным Не-Я. Первоначальный «толчок (Anstoß)»13 запускает весь механизм этого «отношения взаимности (Wechsel)» и приводит тем самым к тому, что Я самоограничивает свою бесконечную активность и выходит вне себя, чем создаёт Не-Я вместе с его уже обратным равнозначным влиянием на само Я. Но в самом тексте этот первоначальный «толчок (Anstoß)» только единожды чётко отождествляется с коммуникативным вызовом со стороны какого-то «Ты», или «предмета» так же субъективного: «Я, поскольку оно здесь рассматривается, есть простая противоположность не-Я и ничего больше; а не-Я есть простая противоположность Я и ничего больше. Без Ты нет Я; без Я нет Ты»14. Но собственно такая относительность15 и взаимозаменяемость двух сторон показывает, что уже в Основе… (в частности в разделе «Основание науки практического») фихтеанское «Не-Я» означает в первую очередь иное Я.
Непосредственно коммуникативная суть этого «отношения взаимности» куда лучше раскрыта в Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (Несколько лекций о назначении учёного), которые появились в то же время, <в> 1794/1795 <годах>. Так, во Второй лекции, где речь идёт О назначении человека в обществе, Фихте прямо говорит об «общественном стремлении», которое относится к «основным стремлениям человека (Grundtriebe)». Это стремление формирует потребность в том, «чтобы найти свободные разумные существа вне нас»16. Само понятие разумного существа дано каждому вместе с понятием его Я. Оно подразумевает свободный способ деятельности: там, где среди наблюдаемых явлений встречаются такие, которые мы не можем объяснить привычной естественной причинностью, мы должны предположить, что их причиной является собственно свобода, сравнимая с нашей собственной, т.е. принять их за проявления свободного самоопределения других разумных существ. Таким образом, трансцендентальное «Я» сразу содержит в себе отношение-обращение17 к общему «Мы»: субъективность уже в самой своей чистой структуре неотделима от межсубъектной (интерсубъективной) связи, которая объединяет свободных разумных существ, или от коммуникативной общественной связи. «Отсюда возникает, пользуясь кантовской терминологией, взаимодействие по понятиям (Wechselwirkung nach Begriffen), целесообразная общность (Gemeinschaft), и она-то есть то, что я называю обществом»18.
Сущностью «общественного стремления», таким образом, является диалогический взаимообмен, в котором разумные существа взаимодействуют и определяют друг друга как свободных существ. «Это стремление направлено на взаимодействие, взаимное влияние, взаимное давание (Geben) и получение (Nehmen), взаимное страдание и действие, а не на голую причинность и голую деятельность, по отношению к которой другой должен был бы находиться только в страдательном состоянии. Стремление направлено к тому, чтобы найти свободные разумные существа вне нас и вступить с ними в общение; оно направлено не на подчинение19, как в телесном мире, но на согласование20. Если не хотят искомым разумным существам вне себя предоставить возможность быть свободными, то рассчитывают только на их теоретическую способность, но не на их свободную практическую разумность; не хотят вступить с ними в сообщество, но желают господствовать над ними как над более ловкими животными, и тогда ставят своё общественное стремление в противоречие с самим собой. Но что же я говорю: «ставят в противоречие с самим собой»? — его скорее не имеют совершенно — этого более высокого стремления; человечность в таком случае в нас ещё не развилась в достаточной мере; мы сами ещё стоим на низшей ступени получеловечности или рабства. Мы ещё сами не созрели до чувства нашей свободы и самодеятельности, так как в противном случае мы непременно хотели бы видеть вокруг себя подобные нам, т. е. свободные, существа. Мы рабы и хотим держать рабов. Руссо говорит: иной считает себя господином других, будучи более рабом, чем они; он мог бы ещё правильнее сказать: всякий, считающий себя господином других, сам раб»2122.
Цитирую этот вывод из Второй лекции достаточно широко, поскольку в нём хорошо видно, как Фихте уже в первых йенских работах обогатил свою транcцендентально-философскую «кантовскую терминологию» (понятия «взаимодействия» и «целесообразной общности», главенство «согласования» над «подчинением» и «практического» разума над «теоретическим» в целом) непосредственным обращением к общественному уровню коммуникационной межсубъектности. Здесь также хорошо виден первый набросок уже именно фихтеанской модели межсубъектной взаимности: её сутью является диалогичное общение свободных субъектов, которое в духе не зря упоминаемого здесь Руссо целиком и полностью исключает любое господство одних людей над другими как источник нечеловеческого порабощения всех. Этим модель Фихте отличается от более поздней гегелевской модели, которая отношение изначального господства и подчинения принимает за начало процесса обобществления, или, тем самым, за первую форму человеческой свободы. Фихте скорее говорит о коммуникативном сообществе cо «взаимным даванием и получением (des Gebens und Nehmens)», которое считается высшей целью сосуществования людей. «Поэтому мы с таким же основанием можем сказать: общее совершенствование, совершенствование самого себя посредством свободно использованного влияния на нас других и совершенствование других путём обратного воздействия на них как на свободных существ — вот наше назначение в обществе. Чтобы достигнуть этого назначения и постоянно достигать его всё больше, для этой цели мы нуждаемся в способности, которая приобретается и повышается только посредством культуры, и именно в способности двоякого рода: способности давать или действовать на других как на свободных существ и восприимчивости, или способности брать или извлекать наибольшую выгоду из воздействия других на нас»23.
Только в Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (Основание естественного права согласно принципов наукоучения) 24, 1796 года, Фихте изложил свою диалогическую модель трансцендентальной межсубъектности более подробно. Именно там можно найти не только вступительный набросок, но также и последовательное развитие мысли о том, что для получения понятия «субъективности» в традиционном смысле нужно понять, что не только отношение человеческого субъекта к каждый раз данным предметам, но также и его собственное отношение к самому себе (которое только и делает его субъектом) всегда опосредовано его отношением к другим субъектам. Уже во Втором утверждении 25 находим: «Сформированное разумное существо не может само за собой признать свободное причинное 26 (Wirksamkeit) воздействие в чувственном 27 мире, не признавая такого и за другими, следовательно, такими же разумными существами вне себя»28. В таком обобщённом виде это утверждение звучит похоже на приведённые выше формулировки из Лекций о назначении учёного. Однако там диалогическая межсубъектность выразительнее всего мыслилась ещё в своей «слабой» трактовке, а именно как производный результат своеобразной проекции. Благодаря этой проекции человеческое Я только опосредовано распознаёт в определённом Не-Я подобное себе другое Я, перенося на него своё собственное (данное изначально, а следовательно непосредственно) осознание себя как свободного разумного существа. Фихте в Лекциях о назначении учёного так и говорит, что свою потребность в принятии существования других разумных существ вне себя человек удовлетворяет тем путём, что «он кладёт их понятие в основу своего наблюдения над не-Я и ожидает, что найдёт нечто соответствующее этому понятию»29. Само это понятие мы берём изначально прямо из самонаблюдения: оно является понятием свободы нашей собственной, т.е. субъективной, деятельности. Мы как бы подкладываем его под внешнюю форму увиденных предметных явлений, которые без этого подчинялись бы только конечным естественным закономерностям. «Если же посредством нашего свободного поступка […] так изменяется способ действия субстанции, данной нам в явлении, что этот способ действия не может быть более объяснён на основании закона, которому он перед тем подчинялся, но только на основании того закона, который мы положили в основу нашего свободного поступка и который противоположен вышеупомянутому закону, то такое изменённое определение мы не можем объяснить иначе, как посредством предположения, что причина того действия равным образом разумна и свободна» 30.
Напротив, в Основании естественного права межсубъектность сразу получает «сильную» трактовку и понимается как трансцендентальная предпосылка самого понятия «сформированное разумное существо». Таким образом, межсубъектность является также изначальным условием, которое только и делает возможным (и в этом смысле даже предшествует ему) чистое самосознание, или собственную субъективность самоопределяющегося Я. Это хорошо видно в приведённом выше рассуждении из Второго утверждения. Многочисленность субъектов с их интерактивными взаимоотношениями и взаимодействиями выступат здесь единственным решением своеобразной апории, которую Фихте называет «ложным кругом сознания» (Zirkel des Bewußtseins). Суть апории в том, что «для того, чтобы объяснить самосознание, оно само уже должно быть наличным»31. Поскольку сознающее само себя Я никогда не могло бы установить себя 32 как независимого субъекта своих собственных действий, если бы заранее не обнаруживало себя в состоянии пассивной зависимости от приходящих извне ограничений и определений. Если же эти внешние ограничения и определения исходили бы только от какого-то абсолютного Не-Я, или от предметных явлений неразумной природы, то человеческое Я само из себя никогда бы не смогло от них освободиться. В таком случае оно бы никогда не стало свободным Я, самостоятельно действующим субъектом. Далее, само Я — трансцендентально понимаемое «сформированное разумное существо» — собственно и является 33 тем напряжением между спонтанностью абсолютно свободного само-определения (Selbstbestimmung) и зависимым состоянием его бытия-в-определении (Bestimmtsein) из-за какого-то внешнего воздействия.
Трансцендентально синтетическим «единством» двух полюсов этого противоречия, которое, таким образом, даёт возможность помыслить «пункт, к которому можно привязать нить самосознания», является отношение диалогической взаимности. Только в рамках этого отношения можно надлежащим образом объяснить ситуацию, при которой определение субъекта воздействием извне побуждает его к самоопределению. «Оба члена абсолютно неразрывны, если помыслим в субъекте такое бытие-в-определении, которое возвращает его к самоопределению (ein Bestimmtsein des Subjekts zur Selbstbestimmung), и следовательно направленный к нему вызов, чтобы он решил действовать определённым способом 34. Этот «вызов (Aufforderung)» является здесь для Фихте основной категорией всего вывода: «вызов» — это такое воздействие извне, которое безошибочно указывает на своё происхождение от свободной деятельности какого-либо разумного существа, чем провоцирует того, к кому он направлен, отвечать на него и, следовательно, действовать как разумное существо.
Коммуникационная межсубъектность выступает не вторичным последствием, а изначальной — «априорной» — предпосылкой разумной свободы и субъективности. Человеческое Я никоим образом не является единичным и изолированным самосознанием. Наоборот: Я может установить себя как субъект только тогда, когда в своём «Другом», во внешнем предмете, встретит также какое-то Я — т.е. другой субъект35. Объективное воздействие извне может стать для Я сразу и непосредственно причиной его собственной свободной деятельности, но только в том случае, если оно будет сознательным целенаправленным «вызовом», который исходит от другого Я и воспринимается соответственным образом. Другими словами, его определённое бытие может стать основой и причиной для его свободных само-определений. Я может установить себя как свободное только постольку, поскольку обнаружит к тому «вызов». А вызов возможен только от какого-либо проявления свободы во внешнем объективном мире, который в свою очередь может исходить только от какого-либо другого свободного субъекта 36 .
Таким образом, понятие человеческой субъективности неразрывно связано со структурой общественного со-существования и со-действия, с пространством межчеловеческих отношений и взаимодействия 37. «Человек (как и любые другие разумные существа вообще) становится человеком только среди других людей. И он не может быть никем иным кроме как человеком (а если бы не был им, то не был бы вообще) — тогда существование одного человека необходимо предполагает существование многих людей. […] Поэтому понятие человека уж точно является не индивидуальным понятием, а родовым»38. Легко заметить, что взятый ещё у традиционной философской терминологии «род» в действительности выступает здесь всего лишь не очень подходящим названием сообщающегося сообщества «свободных разумных существ». Последнее, согласно Фихте, может возникнуть только в пределах свойственной априоримежсубъектности. Пределы же межсубъектности определяются взаимодействием между приходящими извне «вызовами» к свободе и свободными «ответами» на них. Здесь, следовательно, появляется куда более полная и понятийно развитая доработка того (понимаемого скорее через категорию «рода») сообщества взаимного «давания и получения», набросок которого дан в Лекциях о назначении учёного. <В Основании естественного права> интерактивная связь завязывается не между уже существующими индивидуальными субъектами, а предшествует им и делает возможным само их обособление как индивидуальных субъектов. «Понятие индивидуальности является, согласно сказанному выше, понятием относительным (Wechselbegrieff), т.е. таким, которое можно понять только в отношении к чьему-либо другому мышлению. Следовательно, индивидуальность обусловлена мышлением другого, причём по форме точно таким же. Понятие индивидуальности в каждом разумном существе возможно ровно постольку, поскольку его образование дополняемо (vollendet) другим разумным существом. В таком случае, это понятие никогда не является моим, но, поскольку оно согласовано с тем, что признаю я и что признаёт другой, то оно является моим и его, его и моим. Оно, следовательно, является понятием общим (в смысле совместным — Пер.), в котором два сознания остаются связаны воедино»39.
В этой новой, «сильной», концепции решающим является однако то, что составляет истинный смысл того «общего понятия», в котором единичные индивидуальности образовываются только благодаря тому, что они взаимно друг друга «дополняют». Таким образом, смыслом «общего понятия» является сама взаимность, только возведённая в ранг универсальной основы в трансцендентальном понятии разумного права (Recht). Ключевое для всей конструкции Третье утверждение звучит так: «Сформированное разумное существо не может принять [существования] других разумных существ вне себя, если не образуется как состоящее с ними в определенном отношении, которое я называю отношением, основанным на праве (Rechtsverhältnis)»40. Сущностью такого «отношения, основанного на праве» является то, что оно априори — а, следовательно, обязательным образом — определяет единственное возможное отношение, в котором могут состоять свободные существа. Они именно должны относиться к себе согласно своему понятию, т.е. должны обоюдно как свободные и разумные признавать (anerkennen) и воспринимать (behandeln) 41. На таком, собственно, признании и восприятии других разумных существ согласно их понятию, а именно как свободных, основывается также главный смысл самого «вызова». Он является добровольным и явным — и совершаемым с учётом возможной свободы других — самоограничением собственной свободы «вызывающего». Но по этой же причине этот «вызов» безусловно требует «ответа» в таком же самоограничении со стороны того, к кому направлен «вызов». Только благодаря этому возникает в полной мере обоюдное и симметричное отношение коммуникативной взаимности. «Понятие, которое субъект имеет о внешнем к нему существу как свободном, является потому обусловленным таким же понятием того существа о нём и деятельности согласно этому понятию. […] Познание одного индивида другим обусловлено тем, что тот другой воспринимает первого как свободного (т.е. свою свободу ограничивает понятием свободы первого). Но такой способ восприятия обусловлен в свою очередь способом, которым тот первый индивид действует; ну а сам этот способ обусловлен способом деятельности и познания того другого индивида, и так далее до бесконечности. Отношение, в котором свободные существа обоюдно состоят друг к другу, является потому отношением взаимодействия, которое опосредованно умом и свободой. Ни одно из них не может признавать другое, если они оба взаимно не признают друг друга. Ни одно из них не может воспринимать другое как свободное существо, если оба они обоюдно так друг друга не воспринимают»42.
Собственно такое отношение межсубъектной взаимности Фихте называет «отношением, основанным на праве», а его конструкцию представляет в форме своеобразного силлогизма. Во-первых: «Ожидать от определённого разумного существа, что оно признает меня разумным, можно только в той мере, в какой я сам признаю его таковым». Но во-вторых: «Я должен однако от всех разумных существ вне меня во всех возможных случаях ожидать, что они признают меня за разумное существо»43. А потому я должен сам всех тех существ так же воспринимать как разумных и свободных. Признавать и воспринимать других как свободных для каждого значит следующее: самоограничивать свободу своих собственных действий, беря во внимание возможность такой же свободной деятельности со стороны других. Потому, в-третьих и в заключении: «Внешнее по отношению ко мне свободное существо я должен во всех случаях признавать как таковое, т.е. я должен свою собственную свободу ограничивать понятием возможной свободы того существа. — <Суть> выводимого здесь отношения между разумными существами заключается в том, что каждое из этих существ ограничивает свою свободу понятием возможной свободы другого существа, при условии, что другое существо так же ограничивает свою свободу понятием свободы всех остальных, это отношение называется «отношением, основанным на праве» (Rechtsverhältnis). Приведённая здесь формула является точкой зрения права (Rechtssatz)» 44.
Фихтеанская модель межсубъектности как диалогичный обмен «вызовов» и «ответов» приобретает следовательно стойкие трансцендентальные границы только в понятии разумного права и отношения, основанного на праве. Эти границы гарантируют всеобщую важность обязывающих правил обмена свободной взаимности. Особенная философская ценность фихтеанской модели состоит в том, что она позволяет взять сам общественный logos (λόγος) как изначально по своему существу коммуникативный dia-logos (δια-λόγος): разумное слово говорится и слушается, обменивается, и вообще рождается только между говорящими и себя слушающими существами. В таком пра-диалоге и создается само трансцендентальное Между, которое только определяет горизонт возможного появления собственного сознания и самосознания свободных субъектов. Этот горизонт выступает здесь именно как горизонт необходимого признания и соответственного восприятия разумными существами друг друга как субъектов.
Гегель: взаимность между борьбой и диалогом
Фихте находит основу межсубъектности в трансцендентальной структуре связывающего 45 диалога, поэтому его модель кажется на первый взгляд прямо противоположной другой, поздней, но куда более известной и, так сказать, более «классической» концепции изначального обобществления, которая также берёт начало в немецком классическом идеализме: а именно гегелевской. Однако по Гегелю, истинной основой первых форм общественной связи является не диалогическая взаимность «вызовов и ответов», а борьба, и то борьба «не на жизнь, а на смерть». Поэтому эти формы общественной связи всегда обретают вид отношения «господства и подчинения», которое основывается на непосредственном порабощении (а следовательно только на одностороннем «признании»). Кажется, что такой тип зависимости между людьми в принципе исключает какую-либо диалогическую взаимность и годится только для построения насквозь монологичной «рациональности, основанной на господстве».
Но если присмотреться поближе, то противоречие с моделью Фихте не будет таким резким. Гегелевская модель межсубъектности конечно же отличается от фихтеанской, но их отличие состоит скорее в различном способе полемического схватывания и выражения по существу46 близким образом мыслимой структуры. Прежде всего стоит вспомнить, что в концепции Гегеля сам образ «борьбы» выражает только необходимое начало диалектического процесса, в котором и рождается свободная субъективность самосознания и то только благодаря опосредствованию своим собственным отношением к другому такому же самосознанию. Собственно человеческое самосознание, включающее в своё понятие «жизнь» и «вожделение», раздваивается и удваивается, что ведёт к неизбежному конфликту противоположных самосознаний. В этом конфликте каждое самосознание стремится к самоутверждению себя через уничтожение — «смерть» — противостоящего самосознания. Именно это стремление и является первым проявлением духовной свободы и взаимности в общественном мире человека. «Отношение обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. — Они должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в том, чтобы быть для себя (курсив М.Семека. — ред.), они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизнью подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания не бытие, не то, как оно непосредственно выступает, не его погруженность в простор жизни есть сущность, а то, что в нём не имеется ничего, что не было бы для него исчезающим моментом, — то, что оно есть только чистое для-себя-бытие. Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг. Каждое должно в такой же мере идти на смерть другого, в какой оно рискует своей жизнью, ибо другое для него не имеет большего значения, чем оно само»47.
Такой обоюдный риск жизнью во имя свободы превращает, таким образом, борьбу в самое первое межчеловеческое отношение. Оно же, в свою очередь вырывает участников борьбы из непосредственного природного существования, связывая их общественной связью взаимности. Гегель излагает эту концепцию более развито, а следовательно более общо и кратко, но потому и менее драматично в Энциклопедии. Напоминая, что сущностью всегда уже «раздвоенного» самосознания является «влечение показать себя в качестве свободной самости и для другого быть налицо (da zu sein) как таковым, — процесс признания»48, в следующем параграфе добавляет: «Это противоречие есть борьба; ибо я не могу знать себя в другом как самого себя, поскольку другое есть для меня непосредственное другое наличное бытие; я поэтому стремлюсь снять эту его непосредственность. Точно так же и «я» не может быть признано как непосредственное, но признаётся лишь, поскольку я сам снимаю в себе свою непосредственность и благодаря этому даю моей свободе наличное бытие. Но эта непосредственность есть в то же время телесность (Lieblichkeit)самосознания, в которой оно, как в своём внешнем знаке и орудии, имеет чувство самого себя (Selbstgefühl), равно как и своё бытие для других, и свое опосредствующее с ними отношение»49.
Это конечно же касается в равной мере двух противоборствующих сторон, поэтому та изначальная «борьба не на жизнь, а на смерть» на самом деле таковой совсем не является и быть не может. Гегелевская модель работает только при условии, что оба участника такой борьбы остаются живы. Победитель не может в действительности убить побеждённого, поскольку в таком случае весь процесс не вышел бы за пределы чисто звериной природы. В таком случае сама борьба не была бы тем, чем она должна быть: исходным процессом формирования начала и основы «духовного», т.е. истинно человеческого мира. «Но это подтверждение смертью в такой же мере снимает истину, которая должна была отсюда следовать, как тем самым и достоверность себя самого вообще, ибо подобно тому, как жизнь есть естественное положительное утверждение (Position) сознания, самостоятельность без абсолютной негативности, так и смерть есть естественная негация (Negation) его, негация без самостоятельности, негация, которая, следовательно, остаётся без требуемого значения признавания. Хотя благодаря смерти достигается достоверность того, что оба рисковали своей жизнью и презирали её и в себе и в другом, но не для тех, кто устоял в этой борьбе. Они снимают своё установленное в этой чуждой существенности сознание, которое есть естественное наличное бытие, или: они снимают себя, и снимаются в качестве крайних терминов, желающих быть для себя»50. В случае смерти побеждённого победитель лишается самого главного из своих трофеев: своего собственного самосознания как признанного Другим. И снова в куда более сухих, но в то же время более выразительных формулировках говорит об этом Энциклопедия: «Борьба за признание идёт, следовательно, на жизнь и смерть, каждое из обоих самосознаний подвергает опасности жизнь другого и само подвергается ей, но только как опасности; ибо в такой же мере каждое самосознание направлено и на сохранение жизни, как наличного бытия своей свободы. Смерть одного, разрешающая противоречие, с одной стороны, абстрактным и потому грубым отрицанием непосредственности, оказывается, таким образом, с существенной стороны — со стороны имеющегося налицо признания, которое тоже при этом снимается, — новым противоречием, и притом более глубоким, чем первое»51.
Следовательно оба, победитель и побежденный, должны выжить. Физическая смерть составляет необходимое измерение и неотъемлемую часть человеческого мира. Смерть также налична в человеческом мире — собственно как в изначальной борьбе противостоящих самосознаний у Гегеля — как самая важная ценность человеческой жизни, определяющая иногда её смысл, или горизонт и символическую меру. Не сама смерть, а только страх смерти — изображённый символически, т.е. представленный в образе и до глубины души прочувствованый — по сути52 отличает двух борющихся личностей от животных и делает их людьми. Способ, которым оба противника справляются с этим страхом, определяет также исход всего противостояния: тот, кто может преодолеть свой страх перед смертью, следовательно ценит свободу выше жизни, поэтому победитель и становится свободным, независимым «Господином». Второму же, который жизнь ценит выше свободы, выпадает участь не-свободного «Раба». Однако в результате униженный Раб позволяет Господину избавиться от его страха, почти целиком беря этот страх на себя; таким образом подчинённое «рабское сознание» переживает свой страх глубже и куда более творчески в сравнении с неустрашимым самосознанием Господина. «…это сознание испытывало страх не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за всё своё существо, ибо оно ощущало страх смерти, абсолютного господина. Оно внутренне растворилось в этом страхе, оно всё затрепетало внутри себя самого, и всё незыблемое в нём содрогнулось. Но это чистое общее движение, превращение всякого устойчивого существования в абсолютную текучесть, есть простая сущность самосознания, абсолютная негативность, чистое для-себя-бытие (курсив М.Семека. — ред.), которое таким образом присуще этому сознанию»5354.
Зависимый Раб постигает также свою самобытность, которая оказывается равнозначной самобытности Господина, а во многом даже более полной и прочной, поскольку опирается на независимое формирование (Bilden)действительности посредством труда. В то же время бездеятельному сознанию Господина, согласно такому взгляду, выпадает участь скорее постоянной не-самобытности. Ведь на самом деле «…в том, в чём господин осуществил себя, возникло для него, напротив, нечто совсем иное, чем самостоятельное сознание. Для него оно — не самостоятельное сознание, а, напротив, сознание, лишённое самостоятельности; […] Поэтому истина (курсив М.Семека. — ред.) самостоятельного сознания есть рабское сознание. Правда, это последнее проявляется на первых порах вне себя и не как истина самосознания. Но подобно тому, как господство показало, что его сущность есть обратное тому, чем оно хочет быть, так, пожалуй, и рабство в своём осуществлении становится скорее противоположностью тому, что оно есть непосредственно; оно как оттеснённое обратно в себя сознание (als in sich zurückgedrängtes Bewußtsein) (курсив М.Семека. — ред.) уйдёт в себя и обратится к истинной самостоятельности»55. Таким образом вся сфера труда как сфера творческого «формирования», или «культуры» (Bildung), является для зависимого Раба прежде всего его оружием в «борьбе за признание»: оно является чрезвычайно эффективным средством, которое позволяет принудить Господина к взаимности.
Так что, видимо, физическая «борьба не на жизнь, а на смерть», в которую, согласно гегелевской модели, вступают на заре истории оба гипотетических пра-субъекта, в действительности является изначальным конфликтом вокруг чисто «духовного», общественно-человеческого статуса и судеб участников борьбы. Именно это Гегель имеет в виду говоря, что в сущности это является борьбой за признание. Борьба идёт не за предметы или материальные блага, которыми владеет другой, и даже не за обладание и распоряжение живим телом другого, а о самом его «желании». Это в одинаковой степени касается двух борющихся сторон. Главной целью в этой борьбе, таким образом, является сознание, воображение и воля иного, словом: сама его субъективность. «Самосознание достигает своего удовлетворения только в некотором другом самосознании»56. Потребности и материальные блага опосредствуются здесь символическим интересом, который, как было сказано выше, сводится к тому, чтобы «моя» субъективность была отражена и подтверждена в принимающем57 сознании других субъектов, через что она получает повсеместное признание.
Символический интерес, который является началом и целью изначальной борьбы, прежде всего также направлен на символические блага и ценности — такие как признание, авторитет, престиж. Он с самого начала движется в целенаправленной сфере смысла, который определяется сообщающим посредством58 языка и понимания. Короче говоря, символический интерес попросту определяет эту сферу. Поскольку же он вообще может определить её только в языке и посредством его, тогда сразу — ещё «естественным» ходом дел59 — язык используется как средство, т.е. инструментально. Поэтому его полемика60 является в первую очередь монологом: словом принуждения и приказа, языком господства. Но монолог, если он должен быть услышан, с самого начала должен произноситься в пространстве потенциального диалога: в качестве инструмента власти слово отчасти вопреки себе создаёт и распространяет коммуникативную власть слова.
Очевидно, что гегелевскому «самосознанию» нужно достаточно много времени и тяжёлого труда, чтобы в полной мере развить свой общающе-диалоговый61 потенциал. Асимметричная односторонность признания только со стороны принуждённого, которая достаётся победителям от побеждённых, а в дальнейшем господам от тех, над кем они господствуют, может только постепенно и шаг за шагом превратиться в симметричное отношение и добровольную взаимность двухстороннего признания равноправных партнёров. Но это развитие является неизбежным, поскольку его направление и конечная цель почти с самого начала вписаны во внешнюю диа-логику самого «признания». Говоря как можно короче, признание — а гегелевский смысл этого понятия не отличается от фихтеанского — всегда несёт с собой неотъемлемое требование быть признанным: поэтому взаимность заложена в самом его понятии. «Движение, следовательно, есть просто двойное движение обоих самосознаний. Каждое из них видит, что другое делает то же, что оно делает; каждое само делает то, чего оно требует от другого, и делает поэтому то, что оно делает, также лишьпостольку, поскольку другое делает то же; одностороннее действование было бы тщетно, ибо то, что должно произойти, может быть осуществлено только обоими. <Из всего вышесказанного следует, что>62 действование, следовательно, двусмысленно не только постольку, поскольку оно есть некоторое действование как в отношении к себе, так и в отношении к другому, но также и постольку, поскольку оно нераздельно есть действование как одного, так и другого»63. И далее, в более обобщённой формулировке, которая ярче выделяет то неразрывное сплетение взаимного признания и определения: «Каждое <сознание> для другого есть средний термин, через который каждое с самим собой опосредствуется и смыкается, и каждое оказывается для себя и для другого непосредственной для себя сущей сущностью, которая в то же время есть таким образом для себя только благодаря этому опосредствованию. Они признают себя признающими друг друга»64.
Монологическая рациональность борьбы и господства, даже если мы должны были принять её за фактически-историческое начало всей «духовности», общественно-человеческой разумности, мощностью своею собственной логики и грамматики неизбежно переходит общающую65 структуру межсубъектного (интерсубъективного) диалога. Также, согласно Гегелю, надлежащим концом и окончательным результатом всей «борьбы за признание» является та уже вполне симметричная повсеместность взаимного признания, которая как «всеобщее самосознание» составляет вместе с тем прочное приобретение и неустранимую основу свободной субъектности человека в современном мире. Именно такая субъектность живёт и действует только в универсальном коммуникативном сообществе, которую Гегель называет межсубъектным «духом» — или «эта абсолютная субстанция, которая в совершенной свободе и самостоятельности своей противоположности, т.е. различных для себя сущих самосознаний, есть единство их: «Я», которое есть «Мы», и «Мы», которое есть «Я»»66. Теперь становится совершенно очевидно, что такое сообщество в сущности ничем не отличается от сообщества «свободных разумных существ» и создающего его эквивалентного обмена «вызовов» и «ответов», который Фихте описывает в своей диалогической модели трансцендентальной «межличностности»67 взаимных определений и воздействий.
Двойственная природа общественного общения68
Схожесть основ69 двух моделей становится очевиднее, если принять во внимание, что с другой стороны диалогичная модель Фихте по крайней мере в себе не содержит и не предполагает какой-либо коммуникативности сразу межсубъектной и тем самым полностью «свободной от господства» . Наоборот: сформулированный языковой «вызов», приходящий извне, является здесь необходимым, но далеко ещё не достаточным условием для действительно свободной само-выработки70 и самоопределения каждого человека. Этот вызов представляет собой просто вызов вообще, который в принципе не принуждает к тому или иному ответу. То, как человек воспользуется свободой, что с ней вообще сделает остаётся здесь ещё совершенно открытым вопросом. Посему в трансцендентальные рамки общественного диалога, согласно вышеприведённой мысли, включена только возможность, но не необходимость какого-либо действительно межсубъектного общения. Более того, в трансцендентальные рамки включается, кроме чисто количественного множества отдельных участников изначального диалога, так же существенное качественное различие их конкретных, индивидуальных целей, стремлений и интересов, которые тоже свободно развиваются и разыгрываются. Само собой разумеется, что эти различия могут иметь — и обычно действительно имеют — антагонистическийхарактер. Опосредование языком общения71, заменяя стихию естественного насилия, потому с самого начала должно бороться с остатками этой стихии в символической сфере, а следовательно со всем полем конфликтных напряжений и столкновений между особыми (для каждого «всегда-Моими») потребностями и претензиями отдельных индивидов. Формирующаяся здесь рациональность должна поэтому пробиваться через своеобразную силу иррациональности и может достичь успеха только с её помощью.
Этим и объясняется то, что в фихтеанской модели межсубъектности ключевое место занимает понятие правопорядка72. В трансцендентальной конструкции оно предшествует и только обосновывает дальнейшие, более детальные определения общественного существования человека как живой индивидуальности. Эти определения охватывают в равной степени как его сформированную телесность (Leiblichkeit), так и сферу его собственных индивидуальных действий, которая защищена и закреплена правом как его собственность. Оба определения — как определение телесности, так и определение сферы индивидуальных действий — составляют истинное определение человека как отдельной личности (Person) и её (личности) «изначального права» (Urrecht). Но в то же время «изначальное право» в условиях действительной общественной жизни должно быть обеспечено рациональным «правом, основанным на принуждении(Zwangsrecht)» и исполняющей его правовой властью (Macht). Это определяет дальнейшую сферу «государственного права (Staatsrecht)», или законотворчества (Gesetzgebung), создающего разумный строй в публичной сфере (gemeines Wesen). И только во всех своих ближайших определениях или «применениях (Anwendungen)» то первое, всеобщее понятие правопорядка приобретает действительное содержание; а те определения и «применения» являются не чем иным, как многообразно отличёнными и, как правило, антагонистическими целями и стремлениями конкретных индивидов.
Таким образом, вопрос разумной легитимации насилия является одним из самых важных вопросов фихтеанской философии права. В обобщённой форме вопрос звучит так: как превратить стихийную взаимность принуждения в рациональное принуждение взаимности. Этот вопрос Фихте рассматривает в своей теории господства и политической власти. Он ищет содержательное соединение партикулярной «личной воли» индивидов с «общей волей» разумно организованного сообщества. Не углубляясь в саму концепцию Фихте по этому вопросу, приведём только его диагноз исходного положения вещей, которое и делает необходимым само исследование вопроса. «Предметом общей воли является взаимная безопасность; но в случае отдельного индивида — согласно с принятым положением, что он руководствуется не нравственностью, а самолюбием73 — стремление к взаимной безопасности становится производным от стремления к собственной безопасности. Первое подчиняется последнему; поэтому никого не заботит безопасность другого перед ним, всех беспокоит только мера их собственной безопасности перед другими. Можно коротко сформулировать это положение в виде следующей формулы: каждый подчиняет общую цель своей частной цели. (На то же самое рассчитан закон принуждения (Zwangsgesetz): он должен осуществлять то взаимное воздействие, ту необходимую взаимосвязь двух целей в воле каждого, связывая в действительности благосостояние (Wohl) каждого с отсутствием угрозы с его стороны благосостоянию всех остальных)»74.
Особого внимания заслуживает в цитированном фрагменте то «принятое положение», согласно которому каждый индивид «руководствуется не нравственностью, а самолюбием», поскольку такое положение включается в сущность трансцендентального понятия правопорядка, которое коренится в основания Фихтеанской модели межсубъектности. Право (Recht) в своей сущности берёт во внимание только «собственное самолюбие» индивидов, т.е. их эгоистический интерес, который всегда заботится только об частной идейности каждого из них. Поэтому право существенным образом отличается от нравственности (Moralität) и не нуждается в ней, поскольку само предшествует <ей> и делает её возможной. «Выводимое понятие [права (Recht)]» не имеет ничего общего с нравственным правом (Sittengesetz) и выводится без него […]. К сфере естественного права добрая воля не имеет никакого отношения. Право должно работать, даже если бы доброй воли не имел ни один человек»75. Диалогическое сообщество «свободных разумных существ» в модели Фихте и близко не похоже на этическое «государство целей» в кантовском понимании. Наоборот, в своей основе оно скорее ближе к другой кантовской метафоре — а именно к упоминаемой выше рациональной связи «сообщества дьяволов»76. Тем более что такое сообщество делает своим необходимым исходным пунктом или, что то же самое, своим понятийным и нормативным минимумом взаимность всеобщего принуждения. Принуждение же, однако, силой своей собственной логики может — и должно — превратиться в рациональное принуждение действительно взаимного общения.
Как видно, концепции Фихте и Гегеля куда более подобны, чем кажется на первый взгляд. Тем более Фихте также свою изначальную форму диалогической взаимности считает чуть ли не началом смыслообразующего процесса, который требует цельной реконструкции. Она является не менее сложной и многосторонней, чем развитие гегелевской модели изначальной «борьбы за признание», хотя и мыслиться немного иначе. У Гегеля высокий уровень этичности «свободного от господства» — а следовательно межсубъектного — общения появляется только как результат историко-«феноменологической» диалектики последовательных состояний действительной человеческой субъективности и форм мира, в которых эта субъективность существует. У Фихте же межсубъектное общение появляется сразу и во всём объёме как предмет инспирированной Кантом «трансцендентальной дедукции», т.е. систематического понятийного и нормативного обоснования. Последнее, согласуясь с требованиями философской полемики, поочерёдно изображает — «расписывает» — каждый момент дедукции как равно обязательные определения («априорные условия возможности») человеческого субъекта как «сформированного разумного существа», или, как бы выразились сегодня, общественного языково-коммуникативного существа. Но Фихте не считает эти моменты определения раз и навсегда осуществлёнными, а скорее <рассматривает их> как постоянно открытые возможности, которые, говоря любимым выражением самого Фихте, никогда нам не даны (gegeben), но всегда задаются (aufgegeben).
Насколько гегелевская модель изначальной борьбы сразу содержит в себе зародыш будущей диалогической взаимности, настолько фихтеанская модель даже выразительнее гегелевской позволяет увидеть, что борьба — хоть и в весьма идеализированном виде — также является неотъемлемым моментом в трансцендентальных рамках коммуникативного диалога. Диалогическое общение выступает здесь не столько «свободной от столкновений» противоположностью монологических полемик господства, сколько само является своеобразным посредником языкового, или символически опосредствованного развёртывания конфликтов и антагонизмов, которые с самого начала связаны с господством и подчинением, но поддаются вынужденной рационализации. Только то особенное принуждение рациональности, осуществляемое не Господами и Рабами, и в целом не кем-то над кем-то, а одинаково над всеми посредством общих всем оснований, норм и прав, которые открывают и создают своеобразное пространство общественного диалога. Это межсубъектное пространство повсеместных обязательств создаёт истинный горизонт человеческой действительности, в которой формируются такие со-общественные смысловые конфигурации этой действительности, как язык, право, государство, этическая общность культуры.
Фихтеанская модель изначального диалога уж точно не исключает гегелевской модели изначальной борьбы, а скорее даже — хотя и в немного изменённом виде — включает в себя и, вместе с тем, дополняет. В общем, обе модели содержат важные положения в своих различных определениях, и только обе вместе исчерпывают двойственную структуру общественного общения77. Диалог и монолог, несмотря на свои различия, выступают неотъемлемыми составляющими одной и той же структуры общественного общения и не просто сосуществуют рядом, но многократно соединяются и проникают друг в друга. Монологичекая полемика борьбы и господства является, следовательно, с одной стороны, постоянно присутствующей альтернативой диалогической полемике партнёрства и взаимности. С другой же стороны, она также сплетается с ней и интегрируется в её сферу, так как вообще непосредственные и исключительные символические претензии постоянно вмешиваются в свободную игру опосредствований, которым в конечном итоге подчиняются экономические интересы. И хотя символические стремления нарушают правила этой игры, особо не желая подчиняться обязательным в ней правилам эквивалентного, или справедливого обмена полномочиями, обязательствами и самоограничениями, но тем не менее такая «грязная игра» должна также учитываться и контролироваться честными игроками, как фол в спорте или блеф в картах. Иначе также (<даже>) межсубъектный язык диалога и понимания, которым охотнее всего «говорят» экономические интересы, сам по себе далеко ещё не избавит от соблазнов, чтобы сопротивляться их эффективному натиску, опираясь на монологи символов (символьную силу монологов, силу монологичных символов) — особенно таких, которые в области общественных полемик могли бы быть весомыми источниками политической власти и её узаконивания .
Чистые философские модели «диалога и монолога» позволяют лучше понять действительность общественного общения, но только при условии их одновременного и взаимодополняющего прикладного использования. Ведь эту действительность создаёт полифония диалогов и монологов, которые звучат рядом, порой заглушая друг друга, но иногда также гармонируя. Стоит принять такое понимание, поскольку оно может принести некоторую познавательную пользу. Прежде всего, оно не принуждает к тому, чтобы теория общественной межсубъектности уже в самом начале принимала какой-либо радикальныйдуализм форм и структур полемической рациональности человеческого мышления и деятельности. Ведь в радикальной форме дуализм полемической рациональности не способен к преодолению. <Никакого преодоления и не получится>, если остро столкнуть истинно общающую78 форму (направленную на понимание и диалогичную «свободу от господства») и только стратегичную форму (направленную на функционально-инструментальные цели монологического «распоряжения»), как это окончательно и получается у того же Хабермаса. Наоборот, в том понимании, которое получается от соединения моделей Фихте и Гегеля, диалогическое слово становится единственной альтернативой возможности чистого насилия. Но в то же время, всегда остаётся возможность насилия слова и через слово, так как достигается действительное соглашение противоборствующих сторон. Сложное и многомерное пространство общественного общения, которое рядом со случаями «подлинного» диалога в непосредственном общении двух личностей включает также проявления — более или менее монологичные — безличной и инструментальной «рациональности господства», не даёт толком себя ни распознать, ни измерять с помощью таких абстрактных понятийных инструментов как главные оппозиции и категории Хабермаса. Особенно трудно согласиться с навязываемыми этими понятийными инструментами требованиями, чтобы общающую79 межсубъектность действительного диалога исключить из инструментально-стратегической сферы экономических интересов и включить скорее в гипотетическую сферу какой-либо «другой», каждый раз целиком не-инструментальной разумности.
С высоты этой сложности ещё менее значительными кажутся вопросы современной «философии диалога», которые, ссылаясь (не всегда вполне основательно) на мысли Розенцвейга, Бубера или Левинаса, наперёд сводят нормативный смысл самого понятия «диалогичности» человеческого говорения, мышления и деятельности к тому его наиболее привилегированному, невероятно напыщенному значению, которое оно иногда приобретает в интимной сфере некоторых межчеловеческих отношений, а именно — в любви и дружбе — на непосредственной личной связи «Я» и «Ты». Современная «философия диалога» пренебрегает тем обстоятельством, что в отношениях этого рода можно усматривать исключительные, высшие свершения и исполнения коммуникативного диалога, но никак не его нормальную повседневность. Так понимаемое отношение «Я» и «Ты» предъявляет амбициозные и строгие претензии ко всейличности и экзистенции человека, требуя полного самопожертвования и отдачи Другому. Эти претензии наверняка могут определять самую высшую цель человеческого общения, но тем не менее, они не составляют ни её сути, ни её причины. Безграничное любование80 на Другого является, наверное, прекрасной и величественной ценностью, которая обогащает человека и его мир, но общающий81 диалог должен осуществляться — поскольку на самом деле так и происходит- также и между людьми нелюбимыми или <даже> вообще к любви не способными.
Идеал непосредственного общения «лицом к лицу» выразительнее всего маячит перед вчерашними и сегодняшними «философами диалога» или «встречи», которые призывают полностью заменить опредмеченное отношение «Я-Это» формами подлинной связи «Я-Ты». Но такой идеал оказывается весьма сомнительным в роли наивысшей цели или сильно желаемой ценности. Он призывает нас с каждым «быть на Ты», чего мы не только не можем, но и вообще не хотим. Форма приветствия „Pan, Pani”82 указывает на дистанцию, которая играет куда большее значение, чем просто элемент общественного этикета. В этой форме выражен весьма важный момент общественного диалога: соблюдение между людьми расстояния и дистанции, которые различают и утверждают его (диалога) пространство. Такая концепция, ошибочно принимая манеру повсеместного «тыканья» согласно формуле «Я-Ты» за единственную альтернативу лишённого человечности отношения «Я-То», уже в самом начале не видит действительной сферы общественного общения, которая простирается между двумя областями значения двух этих формул. Эта сфера скорее начинается вместе с отношением «Я-Он», а может быть и ещё раньше — с «Мы-Они»83 , которое наверняка является сначала переживанием радикальной чуждости Другого, но вместе с тем сразу же становится диалогическим процессом её преодоления. Следовательно, этот диалог становится и развивается также посредством присутствующих в нём монологов, которые всегда содержат в себе возможность застревания в одном из монологов. Именно эта двойственность внутри самой структуры общественного общения делает весьма полезными дополняющие друг друга системы Фихте и Гегеля.
Текст: Марек Ян Семек
Перевод: Загоруйко Максим
Консультация: Dominik Jaroszkiewicz