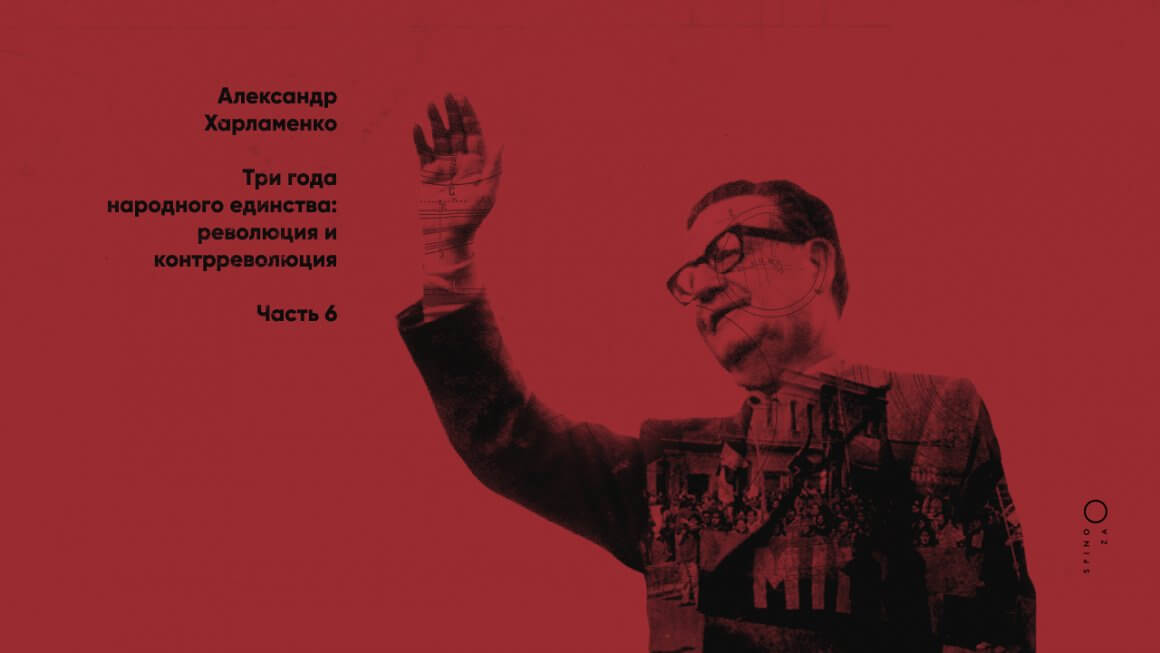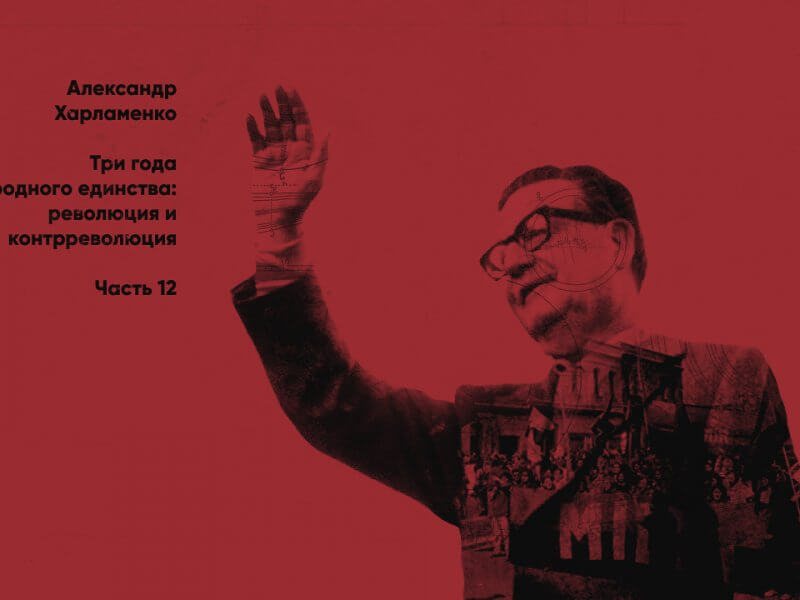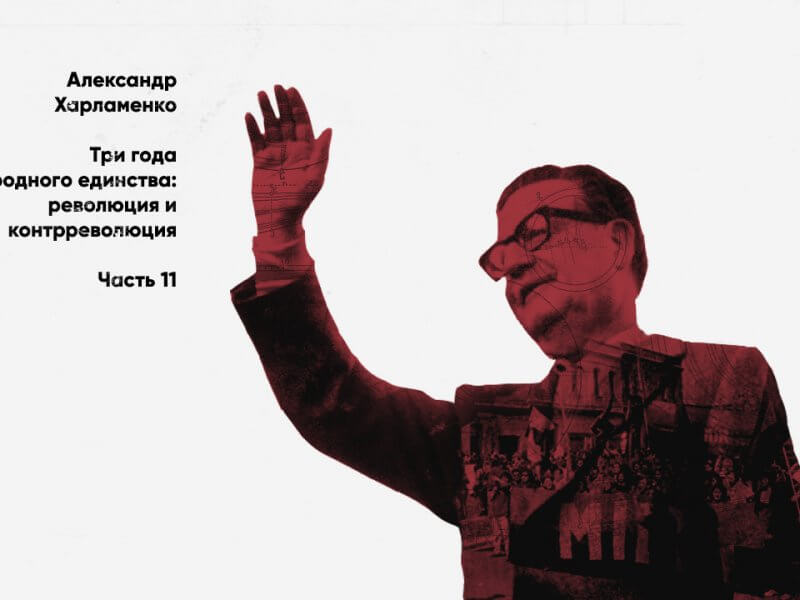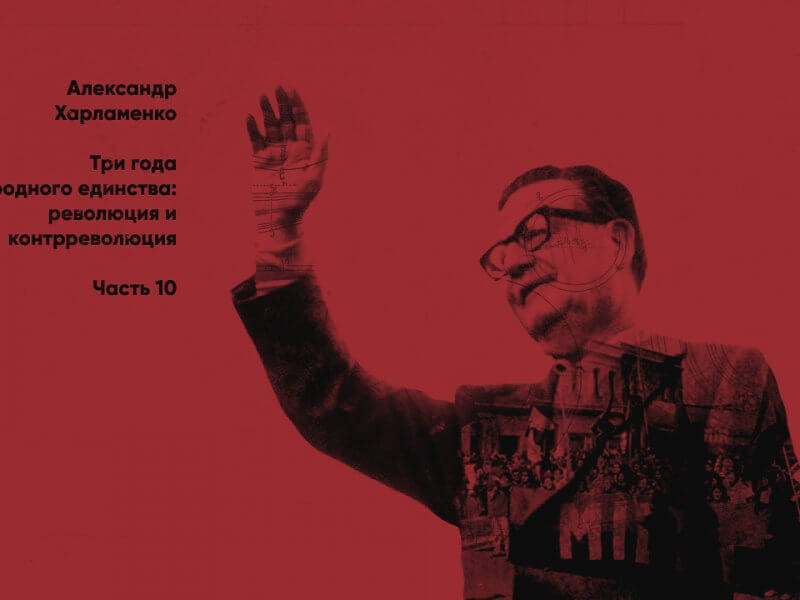Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
6. Двоевластие.
Действительно, первостепенная важность социально-экономических преобразований не отменяла общей закономерности революционных эпох: «Вопрос стоит (и, по-марксистски, может стоять) лишь так: без правильного политического подхода к делу данный класс не удержит своего господства, а следовательно, не сможет решить и своей производственной задачи»1. Правильность же подхода определяется прежде всего верным пониманием характера революции, ее основных этапов, путей решения основного вопроса всякой революции — вопроса о власти. По этим важнейшим вопросам левые партии Чили не занимали единой позиции.
КПЧ считала текущий этап революции антиолигархическим и антиимпериалистическим; его основным содержанием должно было стать обобществление природных ресурсов, латифундий, банков, промышленных и торговых монополий, а политическим итогом — «передовая демократия». Переход к социалистическому этапу мыслился в перспективе, по мере достижения более полного контроля над государством, более высокого уровня организации и сознания народных масс. До тех пор коммунисты считали необходимым строго следовать Основной программе: «В эти дни нет ничего более важного, нет ничего более революционного, чем действовать во имя успеха народного правительства, возглавляемого товарищем Сальвадором Альенде, во имя выполнения его программы».2
В СПЧ также были сторонники подобного курса. Но на съезде в начале 1971 г. они остались в меньшинстве. Новые лидеры во главе с Карлосом Альтамирано считали революцию социалистической с самого начала. На пленуме ЦК в марте 1971 г. К. Альтамирано говорил: «Это — революционный процесс, ведущий к взятию власти и открывающий путь к социализму… пройденный путь позволяет нам консолидировать его, не сдерживая его ход, но только углубляя его. С политической точки зрения это углубление ведет нас ко все более жестким столкновениям с буржуазией и империализмом». Он предупреждал: «Вооруженная агрессия империализма и буржуазии неизбежно произойдет в крупном масштабе, с использованием всей их военной, социальной, экономической, политической и идеологической мощи…»3 Исходя из этого, СПЧ ставила главной целью скорейшее овладение всей полнотой власти и изменение характера государства. К социальной базе правительства, в соответствии с Основной программой, она относила «прогрессивные круги средних слоев города и деревни», но не «средние слои» в целом4.
Третью позицию занимали президент Альенде и его ближайшие сторонники, составлявшие в СПЧ меньшинство. Они также считали начатые преобразования социалистическими, но ориентировались на коренное изменение характера государства без нарушения его конституции: «Принцип законности и система государственно-политических институтов сохранятся при социалистическом строе, несмотря на трудности, которые они вызовут в переходный период. Сохранить их в течение этого трудного периода, изменяя классовое содержание, — вот задача, которая имеет решающее значение для нового общественного строя»5. В дальнейшем предполагалось, получив большинство на выборах, преобразовать политический строй мирным путем. Это был по существу проект эволюционной замены одного классового типа государства другим. Гарантиями «чилийского пути к социализму» Альенде представлялись «решительность правительства, революционная энергия народа, верность вооруженных сил и карабинеров принципам демократии», а также «единство народных сил и здравый смысл средних слоев… Если против народа не будет применено насилие, мы сможем преобразовать структурные основы, на которых базируется капиталистическая система, в условиях демократии, плюрализма и свободы, без физического принуждения, без нарушения правопорядка, без дезорганизации производства…»6 Правда, делалась оговорка: «Если насилие, внешнее или внутреннее, в любой форме — физической, экономической, социальной или политической — начнет угрожать нашему нормальному развитию и завоеваниям трудящихся, тогда возникнет самая серьезная опасность для конституционного режима…»7
Четвертая позиция была представлена МИР. Эта организация считала, что вопрос о социализме не может ставиться, пока вопрос о власти не решен в пользу трудящихся, и в то же время критиковала «жесткую концепцию поэтапной революции».8 Миристы полагали, что страна находится еще на этапе складывания революционной ситуации, которая, в свою очередь, может разрешиться либо революцией, либо контрреволюцией. Условие первой они видели в возникновении и развитии народной власти, альтернативной буржуазному государству, по типу двоевластия в России 1917 г. Поддерживая прогрессивные меры правительства, миристы считали его частью буржуазного государства, а тех, кто с этим не соглашался, в частности КПЧ, — реформистами. Они полагали: «Продвижение вперед зависит от разрушения капиталистического государства и от действительного участия масс в этом процессе… Все это неизбежно предполагает вооруженное противостояние между господствующим классом и трудящимися».9 В соответствии с этой линией они стремились организовать массовое движение, проникнутое революционным сознанием, и готовить трудящихся к решающему столкновению.
Была ли какая-либо из этих позиций вполне и единственно правильной?
Миристы были правы в четкой постановке вопроса о власти как основного, в ясном понимании альтернативы революции и контрреволюции. Но, считая революционную ситуацию делом будущего, они не замечали, что в реальности она уже сложилась, более того, начался революционный процесс, хотя в иных формах, чем они ожидали. Главным рычагом преобразований выступила завоеванная трудовым народом исполнительная власть. Поэтому ее сущность была не реформистской, а революционной. В этом правы были коммунисты: «Правительство, которое возглавляет товарищ Сальвадор Альенде, прежде всего является завоеванием рабочего класса. Его социальный состав и его программа открывают реальную возможность идти к социализму, который положит конец эксплуатации человека человеком».10 Однако, в вопросе об этапах революции практика подтвердила позицию руководства СПЧ: социалистическая направленность четко обозначилась не после выполнения Основной программы, а с самого начала. Об этом свидетельствовали и содержание социально-экономических преобразований в решающей сфере — крупном производстве, и классовый характер проводившей их исполнительной власти, постоянно опиравшейся на организованный пролетариат. Еще до вступления Альенде на пост президента КУТ и другие организации представили проекты первоочередных мер. Президент говорил: «Профсоюзы являются одной из основных опор правительства… они не находятся под его господством, а сознательно участвуют в его деятельности, поддерживают и помогают в этой деятельности и критикуют ее».11
Вводился новый стиль управления — вместе с массами и с их согласия. Двери министерств и ведомств впервые открылись для представителей трудящихся. Участие трудящихся в управлении как через левые партии, так и через общественные организации не только обеспечивало учет их требований и интересов, но и служило противовесом бюрократизму. Конгрессу было предложено ограничить размеры окладов и завышенных пенсий высших чиновников. Стремясь утвердить в госаппарате новые принципы, КПЧ установила для работавших там коммунистов партмаксимум, как для депутатов: часть излишка вносили в партийную кассу, часть передавали КУТ или оставляли налоговому управлению, часть перечисляли в фонд детских садов. Коммунисты призвали союзников последовать ее примеру, и СПЧ приняла положительное решение.
Государство переставало быть машиной подавления трудящихся. В первые же дни министр внутренних дел Х. Тоа объявил о роспуске Подвижной группы карабинеров, подавлявшей рабочие, крестьянские и студенческие выступления. Правительство амнистировало политзаключенных и потребовало от полиции действовать при социальных конфликтах методами убеждения.
Некоторым лидерам казалось, что «государство в собственном смысле» как обособленная от народа машина управления уже исчезает. Сразу после вступления в должность, выступая перед огромным митингом на Национальном стадионе, Альенде говорил: «Я знаю, что слово «государство» внушает определенное опасение… Не бойтесь слова «государство», потому что государство, народное правительство — это вы, мы все. Вместе мы должны совершенствовать это государство, чтобы сделать его действенным, современным, революционным».12 В январе 1971 года была проведена «народная дискуссия» с участием членов правительства, левых партий и массовых организаций. Президент выделил тогда «два аспекта массового участия организованных трудящихся в экономической и политической жизни страны: контроль над центрами производства, что означает участие в решении экономических проблем, и контроль над центрами политической власти, что означает подлинное участие в решении политических проблем. Мы считаем, что только так мы сможем перейти от формальной демократии к конкретной демократии, на основе участия большинства в деятельности правительства и других органов различного уровня, участия, которое обеспечивает осуществление этим большинством правительственной власти».13
Но представление о непосредственном единстве государства и народа, преждевременное даже при социализме, было совсем неуместно при сохранении основных институтов буржуазной государственности. Противоречия между этими институтами и трудовым народом, овладевшим исполнительной властью, не исчезли. Выступая на пленуме ЦК КПЧ в ноябре 1970 г., Л. Корвалан подчеркивал: «Левые партии сформировали правительство, т.е. завоевали ту часть механизма политической власти, которой принадлежит основная роль в управлении государством. Однако олигархия по-прежнему занимает прочные позиции в законодательных и судебных органах». 14
Один из деятелей КПЧ не без оснований писал: «Конституционный характер нового правительства с первого же дня был его сильной стороной и в то же время его ахиллесовой пятой».15 С одной стороны, левым удалось обратить буржуазную конституцию против самой буржуазии. Попытка насильственного свержения правительства становилась в глазах большинства чилийцев, в том числе военных, мятежом против законной власти. Но, с другой стороны, конституция, предназначенная для охраны капиталистического строя, связывала классово противоположное ей правительство тем сильнее, чем дальше продвигался революционный процесс. Противоречие еще обострялось, а его разрешение затруднялось особенностями политической системы.
Конституцией не были четко разграничены полномочия исполнительной власти и Конгресса. Президент назначал министров и губернаторов, отвечавших только перед ним, но Конгресс мог вынести любому из них «конституционное обвинение» и обязать президента сместить его (нарушены ли конституция и закон, решали почему-то не юристы, а депутаты). Президент лишь в 1969 г. получил право единожды распустить Конгресс, и то только при условии проведения референдума; Конгресс же мог отправить президента и правительство в отставку путем «конституционного обвинения», причем в конституции не было оговорено, выносится ли оно квалифицированным или простым большинством. Такая же юридическая неопределенность существовала по поводу преодоления Конгрессом президентского вето и внесения поправок в конституцию, хотя на практике это делалось двумя третями голосов. Сенаторы избирались на восемь лет, и обновить состав верхней палаты за шесть лет президентского мандата было невозможно, поэтому простое большинство в парламенте почти всегда принадлежало оппозиции. Оно не позволяло контролировать действия исполнительной власти, но давало законную возможность саботажа и мятежа, которую буржуазия не раз использовала против неугодных ей и ее империалистическим партнерам президентов.
То же можно сказать о судебной власти. Чудовищное нагромождение законов и подзаконных актов, накопившихся с колониальных времен до последней трети ХХ века (трудовому кодексу было более сорока лет, гражданскому — более ста!), давало корпорации юристов неограниченные возможности крючкотворства и коррупции. Члены Верховного суда назначались пожизненно и были абсолютно бесконтрольны. Они могли аннулировать даже президентское помилование. В 1970 г. был учрежден конституционный суд, которому надлежало разрешать конфликты между законодательной и исполнительной властями. В тупиковой ситуации, запрограммированной самим способом формирования этой инстанции (трое судей назначались президентом с согласия сената, двое избирались Верховным судом), президент имел право распустить Конгресс, провести по спорному вопросу референдум и назначить новые выборы. Это была единственная легальная возможность преобразования политической системы.
В дополнение к трем ветвям власти имелась четвертая — главное контрольное управление, призванное следить за соблюдением законов и проверять деятельность правительства, выступать высшим апелляционным органом. Руководил им генеральный контролер, который назначался президентом, но мог быть смещен лишь Конгрессом путем «конституционного обвинения». Обычно с избранием нового президента генеральный контролер подавал в отставку, но после избрания Альенде он этого не сделал.
Очевидно, что в такой политической системе, представлявшей собою карикатуру на «разделение властей», исполнительная власть, попытавшаяся осуществить сколько-нибудь серьезные преобразования, была просто обречена на конфронтацию с другими «ветвями». Штаб контрреволюции сразу взял именно такой курс.
Главное контрольное управление, при буржуазных правительствах мало проявлявшее себя, встало на защиту монополистов и землевладельцев. Декреты президента не утверждались месяцами, а то и годами: управление вело бесконечные проверки, посылало инспекторов, запрашивало все новые данные, лишь бы затянуть дело. Когда рабочие-текстильщики потребовали прекратить саботаж, управление тут же устроило проверку их предприятия и добилось увольнения неугодных.
Судебная система с самого начала показала свой классовый характер. Иски фабрикантов против рабочих, латифундистов против крестьян рассматривались немедленно, и, если находилась малейшая зацепка, неугодных ждала тюрьма; зато привлечь к суду хозяина за нарушение прав трудящихся и саботаж было практически невозможно. Верховный суд отказался лишить парламентской неприкосновенности сенатора Р. Моралеса, обвинявшегося в причастности к убийству Шнейдера. Неудивительно, что ЦК СПЧ назвал Верховный суд «единственным органом власти, которого не коснулись изменения, происходящие в стране»,16 и потребовал отставки его председателя.
Не отставал и Конгресс. 22 декабря 1970 г. обе палаты окончательно приняли статут «конституционных гарантий», ограничивший полномочия правительства (выполняя договоренность с ХДП, за него проголосовали и парламентарии от партий Народного единства). Правительственные законопроекты нередко отклонялись, а если настроения народа этого не позволяли, подолгу мариновались в парламентских комиссиях, выхолащивались поправками. На юридическую легализацию КУТ, де-факто признанного 18 лет назад, потребовалось полгода. Не довольствуясь парламентской обструкцией, правые уже в начале 1971 г. внесли «конституционные обвинения» министра юстиции за амнистию политзаключенных и критику решения Верховного суда по делу Моралеса, а также губернатора-коммуниста Ф. Тейльера Молины — за отказ направить войска против занявших латифундии крестьян. Этот метод политико-юридической войны за первый год применялся пять раз, в том числе дважды — против министра экономики. Не зря Корвалан сказал: «Чили — единственная в мире страна, где оппозиция преследует правительство».
Само понятие «оппозиция» утратило привычный смысл, т.к. применялось к политическим силам, располагавшим не меньшей, а в чем-то и большей реальной властью, чем правительство. Нормы, ограждающие свободу оппозиционной деятельности, из гарантий буржуазной демократии превратились в средство классовой борьбы буржуазии против демократии трудящихся и в перспективе — в средство установления открытой диктатуры буржуазии.
Миристы ожидали двоевластия, а оно уже стало действительностью. Правда, в необычной форме — не как противостояние старому государству низовой самоорганизации трудящихся вне его, как в прежних революциях, а как противостояние разных «ветвей власти», которые вместе со своей опорой — массовыми организациями антагонистических классов — по существу составили две противоположные системы власти. Уживаться какое-то время их вынуждало, как всегда при двоевластии, равновесие сил. Сохранение или нарушение этого равновесия, как во всякой революции, определялось двумя факторами: организованностью и настроением народных масс и возможностями сторон прибегнуть в критический момент к силе.
В этом плане первостепенную роль играли институты политической системы, официально не облеченные властными полномочиями, но по реальному влиянию не уступавшие «ветвям власти» и тесно с ними связанные: средства массовой коммуникации и армия. Они не замедлили включиться в политическую борьбу.
В сентябре 1970 г. Конгресс принял закон, предусматривавший создание Национального совета по телевидению; ключевые позиции в этом органе, определявшем политику телевещания, заняли демохристиане. Закон обязывал владельцев телеканалов предоставлять всем партиям слово по любому вопросу, но это положение применяли только к государственному телевидению, контролировавшиеся же правыми университетские каналы вещали без ограничений сначала на столицу, а потом, по специально принятому Конгрессом закону, и на всю страну.
Левые располагали всего несколькими газетами и журналами тиражом менее 200 тыс., правые — примерно 150 радиостанциями и 100 газетами и журналами с тиражом свыше 2 млн.17 Разрыв был не только количественным, но и структурным. Разрозненной левой прессе противостоял единый транснациональный медиа-холдинг во главе с кланом Эдвардсов и их органом «Эль Меркурио»; по масштабу, слаженности и эффективности эта пропагандистская машина едва ли уступала геббельсовой, особенно с учетом ее международных пружин. Как стало позднее известно в ходе слушаний в Конгрессе США, ЦРУ финансировало «Эль Меркурио», готовило для оппозиции печатные материалы, радио- и телепрограммы. «Комитет 40» в сентябре 1971 г. вложил в «Эль Меркурио» 700 тыс. долл., в апреле 1972 — еще около миллиона18. Директором популярного оппозиционного журнала был гражданин США. Из Вашингтона оплачивалась покупка оппозиционерами все новых печатных изданий и радиостанций.
Рупоры буржуазии во главе с «Эль Меркурио» беззастенчиво нарушали законы: сеяли панику, клеветали на лидеров Народного единства, а потом и прямо призывали к насильственному свержению правительства. Альенде был вынужден сказать, что «в Чили свобода печати давно превратилась в свободу оскорбления президента». За гораздо меньшие нарушения всякое буржуазное правительство закрыло бы или разорило штрафами за клевету любое СМИ. Но правительству Народного единства это было запрещено «конституционными гарантиями». Оно могло лишь ненадолго приостановить издание или вещание, а дальше решал Верховный суд. Разумеется, иски правительства он отклонял, зато с левыми журналистами обходился необычайно сурово.
Владельцы «Эль Меркурио» обнаглели до того, что вступили в прямой конфликт с буржуазным законом. Фактически принадлежавший г-ну Эдвардсу банк поручился за необеспеченный кредит, полученный автосборочным предприятием в США. Именно эта не отраженная в бухгалтерской отчетности операция, о которой не известили Центральный банк, дала банкам США повод отказать Чили в кредитах. Получив их рекламацию и защищая интересы вкладчиков и кредиторов, правительство поставило банк под контроль своего уполномоченного. Были проверены бухгалтерские книги «Эль Меркурио» и выявлено ее участие в финансовых махинациях, а также огромная задолженность перед государством. Оснований для реквизиции всего треста Эдвардса было более чем достаточно, но правительство, не решаясь нарушить букву «конституционных гарантий», лишь отбивалось от обвинений в посягательстве на свободу печати (?!).
Народное единство пыталось расширить свою систему СМИ путем выкупа тех из них, которые были доведены владельцами до банкротства. Именно так было с издательством «Зигзаг», ранее подконтрольным ХДП. На его основе было создано левое издательство «Киманту», ставшее крупнейшим в стране. За два года им было напечатано 12 миллионов недорогих книг, журналов и других изданий, расходившихся очень быстро, часто в один день. Издательство занималось также комплектованием профсоюзных, поселковых и других библиотек. Правительству и левым партиям удалось приобрести несколько радиостанций, газет и журналов. Но стоило президенту передать одну радиостанцию КУТ, как демохристиане подняли шум, не смущаясь даже тем, что в руководстве профцентра были и их представители. Конгресс в нарушение законов отказал в финансировании телеканала Чилийского университета и национального канала, выделив средства для других каналов, находившихся в руках правых. «Вот оно, истинное проявление демократии, терпимости, уважения к идеям, вновь продемонстрированное большинством Национального конгресса», — сказал тогда Альенде.19
Когда государственная компания попыталась выкупить у мелких вкладчиков акции корпорации Алессандри, контролировавшей 90% производства бумаги, правые организовали для их перекупки «комитет по спасению свободы печати» и всеми средствами, от кампании в СМИ до уличных беспорядков, отстояли свободу, только не печати, а монополистов — диктовать цены на бумагу.
Стремясь к тому, «чтобы все капиталистические предприятия в области прессы и вообще средств массовой коммуникации были демократизированы и в управлении ими участвовали трудящиеся»20, левые испробовали путь контроля работников самих СМИ над их деятельностью, Например, сотрудники 9-го телеканала, принадлежавшего Университету Чили, выступили против правой администрации университета и придали программам левую направленность. Ректорат лишил их денег, но они сами финансировали работу канала и охраняли его от правых боевиков. Миристам удалось поставить под контроль профсоюза журналистов две крупные газеты, ставшие фактически органами МИР.
Неповторимым явлением культуры стала настенная живопись, мурали, — «подлинное средство народной коммуникации национального уровня»21. Первым создал группу уличных муралистов — Бригаду Рамоны Парра — Союз коммунистической молодежи. В годы правительства Народного единства возникло целое движение БРП. Теперь они насчитывали около двух тысяч комсомольцев, спаянных общим мировоззрением. Их отличала сплоченность и высочайшая согласованность действий: бригады, наносившие мураль на севере Чили, знали, что такой же мураль рисуют на юге. Изменялась политическая ситуация — менялись лозунги на стенах во всех уголках страны. Они были пульсом политической жизни. По примеру БРП бригады муралистов стали создавать и другие организации — не только левые, но и правые. Правда, у тех это получалось гораздо хуже.22
Однако, единой системы левых СМИ, сопоставимой по слаженности с буржуазной, не сложилось. Из-за партийно-политических противоречий они били по своим едва ли не больше, чем по классовому врагу.
Другой важнейшей составляющей баланса сил была армия, сохранявшая монополию на оружие. В силу специфики конституционного прихода левых к правительственной власти она была слабо затронута революционным процессом. Левые не обладали вооруженной организацией и не имели законных возможностей ее создать. В день второй годовщины своего избрания Альенде заявил: «Когда у нас требуют винтовок, я говорю «нет»… народ Чили знает, что гарантия стабильности — это именно верность вооруженных сил конституции и закону нашей родины».23
В самом деле, сложились условия, на некоторое время сделавшие армию фактором двоевластия. Это, во-первых, конституция, отводившая вооруженным силам роль гаранта конституционного строя при формальном отстранении их от осуществления власти и участия в политике. Во-вторых — социальные связи офицерства со «средними слоями», окрепшие за пять десятилетий поддержки военными реформистов различного толка, нередко блокировавшихся с левыми партиями против старой олигархии. В-третьих — традиционная ориентация вооруженных сил на защиту общенациональных интересов. Все это прежде использовалось буржуазией для противопоставления военных трудящимся, левым силам, но в начале 70-х годов обернулось против нее самой: именно ей приходилось теперь идти против законного правительства, нарушая конституционную законность; она предстала перед нацией как опора иностранных эксплуататоров и лишилась поддержки значительной части «средних слоев». Народное единство, наоборот, выступило как защитник конституции от угрозы фашистского путча, как избавитель большинства нации от угнетения монополистической олигархией, добивалось возвращения стране природных богатств. Это не могло не повлиять на позицию офицеров-конституционалистов, не расположенных идти против всего, чему их учили десятилетиями, и с симпатией смотревших на радикальные реформы военных правительств в соседней Перу и Панаме.
Отсюда — «доктрина Шнейдера-Пратса»: вооруженным силам надо и при левом правительстве оставаться гарантом общенациональных интересов и конституционного строя, не вмешиваться в политическую борьбу, пока она идет в рамках законной системы институтов, но не позволять экстремистам ее сломать. Эта доктрина при классовой противоположности одних «законных институтов» другим санкционировала и закрепляла равновесие сил, т.е. двоевластие. Но ее можно было обратить либо против правых, либо против левых — смотря кто, каким образом и при каких условиях выступил бы нарушителем равновесия. На эту линию, преобладавшую в вооруженных силах первые полтора-два года, стремилось опираться правительство Народного единства. Альтернативой могло стать только провоцирование военного переворота, противостоять которому безоружный народ не мог.
В этой уникальной ситуации требовалась реалистическая политика, которая «по крайней мере позволяла бы укреплять позиции конституционалистов и предвидеть развитие внутренних противоречий, добиваясь их благоприятного разрешения».24 Надо было действовать так, чтобы политически изолировать правых офицеров и поддержать гражданскую активность лучшей части военных. Но вместо компромисса с военными — патриотами и конституционалистами был взят курс на компромисс с армией как институтом. За ней был фактически признан статус «государства в государстве» и антиконституционная роль арбитра в социально-политических конфликтах. Военные сохранили даже немыслимое в ХХ веке «фуэро», пережиток средневекового судебного иммунитета — право суда и следствия членами своей корпорации.
Еще до вступления в должность Альенде провел несколько встреч с генералами. Решено было увеличить ассигнования на закупки вооружения и снаряжения, повысить жалованье военным, привлечь их к выполнению задач экономического развития, в том числе к управлению медной и другими стратегически важными отраслями. Но этим дело не ограничилось. Ради обеспечения лояльности армии Народное единство отказалось от программных требований: предоставления унтер-офицерам и солдатам права голоса, изменения порядка продвижения по службе с целью облегчить нижним чинам получение офицерского звания. Президент фактически обязался не проводить никаких реформ в армии. В угоду правым генералам были оставлены в силе соглашения о военном сотрудничестве с США. В Вашингтоне оценили эту возможность влияния на вооруженные силы Чили и, свернув экономические связи с нею, продолжали расширять связи военные: подготовку офицеров в США и зоне Панамского канала, ежегодные совместные маневры ВМС, поставки вооружения и военной техники.
По конституции президент как главнокомандующий вооруженными силами имел право назначать и отправлять в отставку старших офицеров. Ближайшие предшественники Альенде за 6 лет пребывания на посту успевали 3-4 раза сменить командование вооруженных сил. И только глава правительства Народного единства почти не использовал это право. Не кто иной, как генерал Пратс, почти три года спустя сказал президенту и лидерам левых партий: «Что за немыслимую ошибку вы совершили! Как вы могли не использовать возможность изменить армейскую иерархию — назначить, например, командующим капитана!» На удивленный вопрос: «Разве это было возможно?» — он ответил: «Да! Это было возможно. В начале вашего правления это было возможно. Теперь — нет!»25
Конституция позволяла создать лояльную правительству службу разведки, но она была оставлена в прежнем виде, под контролем реакционеров. То же было с военной юстицией, которой предоставили расследовать все заговоры с участием военных. Вопреки конституции, изменнические действия и даже мятежи рассматривались как внутреннее дело армии, политические связи заговорщиков не раскрывались, судили одних «стрелочников», да и те отделывались смехотворными наказаниями. Даже дело об убийстве Шнейдера спустили на тормозах; только миристы назвали вещи своими именами: «Следствие раскрыло лишь последний и предпоследний уровни, оставив совершенно нетронутыми более важные части заговора, которые уже готовят контрнаступление…»26
Казармы по-прежнему были наглухо закрыты для левых, их прессы и литературы. Любые попытки политического просвещения военных немедленно клеймились как попытка раскола армии и после демарша генералов дезавуировались правительством. Например, 20 августа 1971 г., в день правого мятежа в Боливии, министр обороны Чили встретился с командующими армии, ВМС и ВВС в связи с заявлениями правых депутатов о проникновении МИР в вооруженные силы. Эти утверждения были признаны необоснованными. Месяц спустя миристы обнародовали в журнале и листовках программу демократизации вооруженных сил и полиции: предоставление солдатам и офицерам права избирать и быть избранными, хранить и читать в казармах любую прессу, проводить собрания, участвовать в массовых организациях наравне со всеми гражданами, не подчиняться антиконституционным приказам. Демонстрируя военным неприкосновенность статус-кво, правительство распорядилось изъять журнал из продажи и подать в суд на автора. Зато во всех трех родах вооруженных сил беспрепятственно действовали ячейки «Патриа и либертад», «Опус деи», других ультраправых группировок, пропагандировались геополитические концепции фашистского толка (главным специалистом по ним был Аугусто Пиночет). К. Альтамирано с полным основанием писал: «В общественном плане аполитичность армии — явление однонаправленное. В той же мере, в какой она изолирует ее от всякого идеологического влияния слева, она оставляет ее беззащитной перед реакционными идеями».27
Отношение к армии стало одним из главных пунктов разногласий между левыми. С. Альенде и КПЧ стремились привлечь на сторону революции или нейтрализовать вооруженные силы в целом, чтобы они «постепенно, без кризиса, смогли понять ту новую роль, которая отводится им при новом режиме, учитывая при этом, что в центре внимания находятся не интересы кучки привилегированных, а интересы трудящихся».28 Президент и компартия считали необходимым ввести высшее командование вооруженных сил в состав правительства, рассчитывая тем самым вовлечь военных в осуществление программы Народного единства. Однако, другие партии коалиции выступили против, считая, что это поставит политику правительства в рамки, приемлемые для правых генералов и буржуазии.
Разумеется, один из ключевых институтов буржуазного государства нельзя было просто пересадить в государство противоположной классовой природы. Сохранение в условиях революции «институционального единства» вооруженных сил предопределяло их контрреволюционную роль. Трудно не согласиться с К. Альтамирано, видевшим «самый серьезный недостаток» революционного процесса в фактическом принятии буржуазной легенды о профессиональной армии, стоящей вне классов и над их конфликтами. Однако, по его признанию, и руководство СПЧ не располагало продуманной политикой в военном вопросе.
Миристы, исходя из односторонне понятого опыта Великой Октябрьской и Кубинской революций, уповали на народную милицию пролетарских окраин и на раскол вооруженных сил по вертикали, между офицерским корпусом и низшими чинами. Однако, история показывает, что победа вооруженного восстания без поддержки хотя бы части армии возможна лишь в исключительных случаях, а фронтальное выступление против военной иерархии — в условиях затяжной войны, превращающей армию в вооруженный народ, центр общенационального кризиса (Россия 1917, Португалия 1974 г.).29 В Чили таких условий не было.
Проведение активной политики в военном вопросе означало немалый риск. Но не идти на него — значило заведомо обречь революцию на гибель. Тот факт, что «среди военных не было заметных течений, которые благоприятно относились бы к процессу социалистических преобразований»30, еще не означал, что не было людей, способных принять сторону революции по демократическим, патриотическим, антифашистским мотивам. Например, симпатизировали Народному единству многие карабинеры: выполняя полицейские функции, они воочию видели тяжелую жизнь бедняцких кварталов и деревни, убеждались в безупречном соблюдении закона организованными рабочими, теряли товарищей от рук правых террористов и негодовали, когда буржуазный суд оставлял убийц безнаказанными. Однако, эти симпатии при отсутствии систематической работы левых в вооруженных силах не могли стать политическим фактором.
Представляется, что условия сложившегося в Чили двоевластия объективно детерминировали два пути его преодоления. Первый, классический, пролегал через возникновение органов революционной самоорганизации трудящихся вне буржуазной системы институтов и их фронтальное противостояние этой системе. На этот путь ориентировались МИР, левые социалисты, левые христиане. Но в условиях Чили он сразу же противопоставлял пролетарский авангард всем социальным силам, для которых легитимность преобразований была связана с сохранением «законности и порядка» и привычного образа жизни: большинству «средних слоев», контролируемой ХДП части крестьянского и рабочего движения, абсолютному большинству военных и клира. В то же время он не мог возместить потерю этих союзников и попутчиков прочной опорой на низы пролетариата и крестьянства: в условиях двоевластия революция до них почти не доходила. Этот путь также неминуемо обострял отношения между самими левыми, пролетарскими по классовой сущности, организациями, из которых одни участвовали в органах исполнительной власти в рамках старой системы государственных институтов, а другие всей своей деятельностью разрывали эти рамки. Всем этим задавалось соотношение сил, при котором победа революции была возможна лишь при особо благоприятном стечении обстоятельств в решающий момент.
Другой путь состоял в том, чтобы в самой системе старого государства найти и использовать возможности ее отрицания по ее же формальным правилам, революционизировать ее изнутри, не вступая с ней во фронтальное столкновение, что должно было максимально расширить социальную базу революции. Таков был выбор С. Альенде и КПЧ. Но для достижения цели надо было не пытаться завоевывать институты буржуазного государства шаг за шагом, чему отдали предпочтение и Альенде и компартия, а нащупать и задействовать легитимный рычаг, обеспечивающий быстрое изменение соотношения сил. Таким рычагом мог стать референдум об изменении конституции. К. Альтамирано позднее писал: «Это была единственная возможность изнутри госаппарата завоевать новую долю власти, выработать новые правила игры в соответствии с меняющимся соотношением сил. … Сама по себе она, даже в случае победы, не предотвращала противостояния, но позволяла революционному движению примениться к новым условиям, усилить свои позиции на всех фронтах, даже военном, и выиграть драгоценное время на подготовку к возможному столкновению»31.
Референдум надо было провести своевременно, пока на настроение большинства действовали общенациональные мотивы, прежде всего национализация природных богатств, пока не были исчерпаны возможности расширения общественного сектора и перераспределения национального дохода декретами исполнительной власти32, пока не сказались последствия обострения классового антагонизма в неблагоприятных для пролетариата социально-политических условиях. После победы Народного единства на референдуме объективно неизбежное размежевание классовых сил происходило бы уже в качественно иной политической системе, с гораздо большими шансами на победу революции.
Оптимальный момент для референдума наступил весной 1971 г. Муниципальные выборы 4 апреля показали, что значительная часть крестьянства и городской бедноты, голосовавшая в 1969-70 гг. за ХДП и НП, перешла на сторону левых. Народному единству в первый и последний раз удалось немного опередить правую и центристскую оппозицию (49,75 против 48,07%). С учетом голосов, поданных за небольшие партии, левые набрали абсолютное большинство. «Средние слои» качнулись влево: только что созданная Конфедерация коллегий специалистов единогласно решила оказать поддержку правительству, на пленуме Национального совета ХДП едва не прошла резолюция о широком сотрудничестве с правительством. В мае левые социалисты и МАПУ предложили провести референдум не откладывая. Соединив в одном пакете первоочередные социально-экономические (национализация меди, углубление аграрной реформы, прогрессивное налогообложение) и политические меры (замена Конгресса однопалатной Народной ассамблеей, введение выборности ею Верховного суда, отмена ограничений профсоюзных и гражданских прав), можно было решительно сместить баланс сил в пользу трудящихся. Перевес левых, составлявший на муниципальных выборах примерно два процента, при голосовании по жизненно важным вопросам мог значительно возрасти. Однако, руководители Народного единства сочли референдум слишком рискованным шагом. Они лишь угрожали им оппозиции: «В нужный момент мы отдадим на суверенное решение народа вопрос о замене нынешней конституции с ее либеральной основой конституцией социалистической ориентации, а также действующего ныне двухпалатного конгресса — однопалатным»,33 — говорил президент в Конгрессе.
Впоследствии Альенде признал отказ от референдума своей самой серьезной ошибкой. Но тогда пытались реформировать политическую систему через Конгресс. Обращаясь к законодателям, президент говорил: «От реалистической позиции Конгресса в значительной мере зависит замена капиталистической законности социалистической в соответствии с осуществляемыми нами социально-экономическими преобразованиями. При этом не следует допускать крушения правопорядка, что могло бы открыть путь произволу и эксцессам, которых мы со всей ответственностью стремимся избежать». Президент напоминал: «Борьба народных движений и партий, которым сейчас принадлежит правительственная власть, существенным образом способствовала созданию одной из наиболее обещающих реальностей, которой располагает страна: я имею в виду нашу систему государственно-политических институтов, выдержавшую натиск даже тех, кто пытался сокрушить волю народа». Отсюда делался вывод: «Гибкость этой системы позволяет надеяться, что она не будет служить сдерживающей преградой и так же, как и законодательная система, приспособится к новым требованиям, а это позволит путем использования конституционных норм создать новую систему, которая необходима для преодоления капитализма». Таким образом предлагалось «передать трудящимся, всему народу политическую и экономическую власть», для чего «установить общественную собственность на основные средства производства»34. Конгрессу, который проваливал реформы, не противоречившие основам буржуазного порядка (предоставление избирательных прав находящимся за рубежом сезонным рабочим, солдатам и унтер-офицерам, создание выборных квартальных судов по мелким делам), предлагали узаконить смену общественного строя и упразднить себя.
Через несколько месяцев президент внес в Конгресс проект конституционной реформы. Предлагалось закрепить в Основном законе 8-часовой рабочий день, права на жилище, отдых, медицинскую помощь и пенсии, учредить однопалатный парламент с упрощенной процедурой прохождения законопроектов и запретить совмещать депутатские функции с частным предпринимательством. Реакцию парламентариев-капиталистов можно было предсказать заранее.
В августе 1971 г., в момент уже гораздо менее благоприятный, чем полгода назад, СПЧ и КПЧ поставили задачу «как можно быстрее добиться создания однопалатного парламента и осуществления других преобразований в системе государственных институтов»35. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Законное средство, позволяющее осуществить это изменение, — референдум, — говорил Корвалан в ноябре 1971 г. — Почему он еще не состоялся? Прежде всего потому, что проект референдума пока еще не получил одобрения всех участников блока Народного единства… Второй вопрос связан с первым, но он более важный: осознали ли массы необходимость референдума об изменении конституции?.. Готовы ли силы блока Народного единства полностью включиться в битву, которая будет иметь решающее значение?».36 Ожидая момента, гарантирующего успех, референдум так и не провели.
Убедившись, что правительство не решается вынести конституционную реформу на всенародное голосование, правые перехватили у него эту идею. Теперь уже ХДП и НП, набирая пропагандистские очки, самоуверенно заявляли, что готовы к референдуму. В случае его проведения победа левых становилась действительно проблематичной. Контрольное управление и судебная власть, почувствовав, что соотношение сил меняется не в пользу правительства, стали выступать против него с удвоенной силой. «Стало ясно, что большая или меньшая гибкость чилийских институтов зависела не от буквы юридической нормы, а от политического могущества борющихся внутри государственного аппарата сил»37. Политика выжидания привела к тому, что наиболее выигрышная возможность расширения базы Народного единства и преодоления двоевластия была безвозвратно упущена.